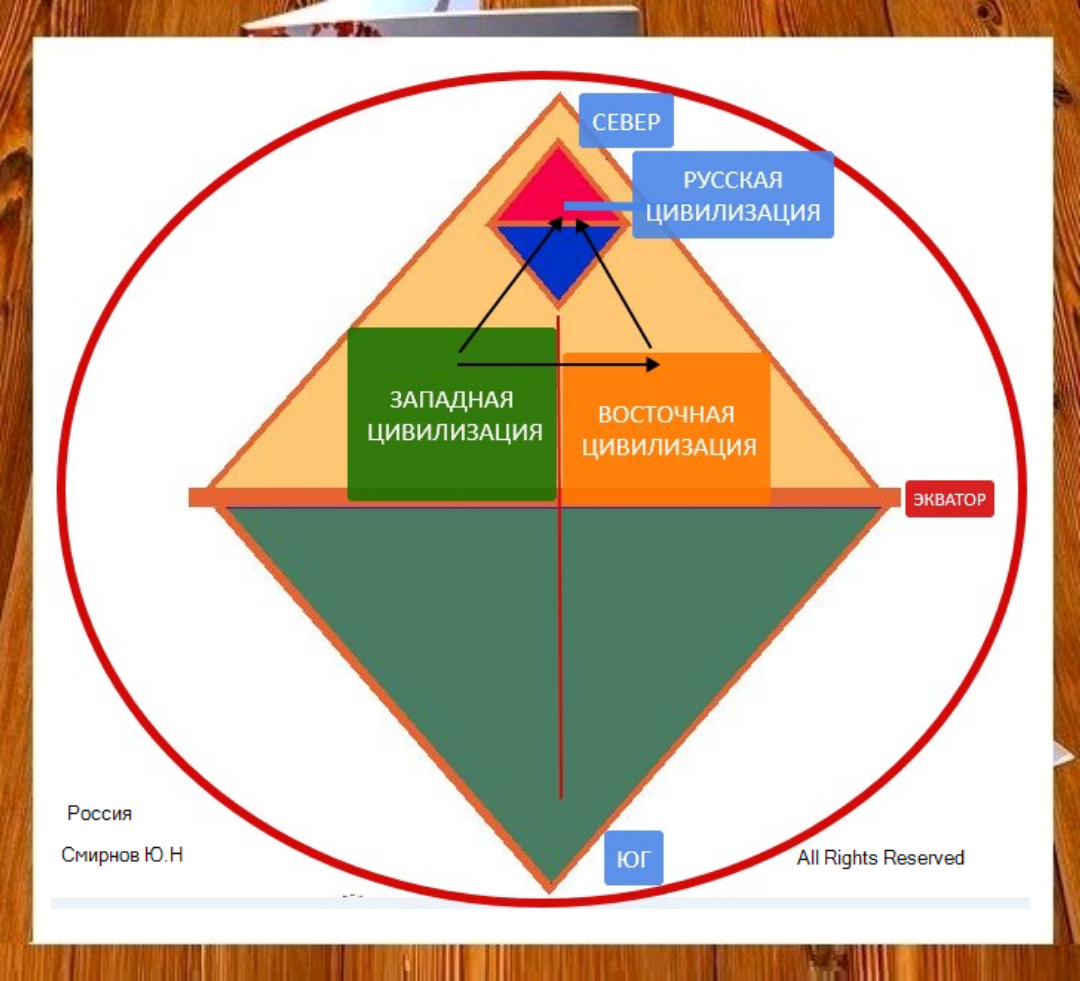|
|
|
|
Учение Платона. ГЛАВА Исторический момент. Мир материальный и мир идеальный. Идеи — их природа и отношение к предметам чувственного восприятия. Иллюстрация. Коренное противоречие в платоновском миросозерцании. Знание реальное и мнимое. Орудие истинного познания. Важность вопроса об абсолютном знании. Ответ на него Платона - теория воспоминания. Произвольность ее и значение в истории мысли. Выводы практической морали и исторический их смысл. Иерархия идей. Высочайшее благо. Божество. Сотворение мира. Косное начало. Материальная форма. Мировая душа. Космология. Психология. Природа души. Добродетель. Любовь. В разговоре с одним из наших соотечественников Герберт Спенсер как-то заметил, что, вообще говоря, там, где условия действительной жизни не представляют здоровой пищи или достаточного простора для человеческой деятельности, мысль ударяется в метафизику. Это замечание, очень меткое вообще, как нельзя вернее схватывает характер того исторического момента, в который появилась великая метафизическая система Платона. Греция жила удивительной жизнью. Фазы ее эволюции следовали одна за другою с ошеломляющей быстротой; формы общественной и политической жизни сменялись, как сменяются сцены в какой-нибудь волшебной феерии, и греческий гений, как легендарный Фаэтон, мчался по небесному своду, сверкая и грохоча, все выше и выше поднимаясь по скользкой и опасной тропинке. Это была какая-то безумная скачка, от которой мы, отдаленные потомки, испытываем чувство, подобное тому, которое вызывают в нас — да простится нам это сравнение — антраша особенно смелого и дерзкого акробата. Мы с захватывающим дух волнением все как бы ждем катастрофы; мы не можем отделаться от этой мысли; наши нервы напряжены — и, увы, в большинстве случаев наши опасения оправдываются. Греческий гений жег себя, так сказать, с двух сторон, и достигнув в два-три поколения неслыханного расцвета, стал так же быстро меркнуть и угасать. Эпоха, в которую жил и мыслил Платон, как раз совпадает с тем моментом, когда леденящее дыхание смерти впервые коснулось Эллады: общественные формы ее стали обнаруживать признаки разложения, искусство стало спускаться со своей недосягаемой высоты, и сама мысль начала биться и кружиться в сетях все охватывающего скептицизма. Еще и еще немного, одно лишь поколение — и прекрасная Греция падет под ударом завоевателя, как созревший плод падает при легком дуновении ветра. Платон не мирился с действительностью и, с силой творчества, редко превзойденной в истории мысли, создал себе мир вечный и прекрасный, недоступный ни времени, ни самой смерти. Материальный мир с его быстронесущимися формами, его изменчивыми судьбами, его страданиями и несовершенством поблек, потускнел, почти исчез при свете другого мира— высшего, незыблемого и единственно действительного. Что, в самом деле, представляет из себя вся эта совокупность явлений, которую мы называем пышным именем “мир”? Беспрестанное движение, беспрерывная смена разрозненных, ничем не связанных вещей, где нет ни постоянного, ни вечного, про что мы могли бы сказать, что это то, а не другое. Все, как Гераклит говорил, находится в состоянии неостанавливающегося течения, в котором нет ничего определенного, в котором не за что ухватиться, где все ускользает из рук, где все меняется, переходит одно в другое,— где, словом, нет бытия, а есть лишь становление. Считать все это за действительность так же бессмысленно, как принимать китайские тени, проходящие перед нашими глазами на полотне, за реальные фигуры: реальность, если где-нибудь существует, должна быть в другом месте, а не здесь, в этом калейдоскопе вечно несущихся явлений и форм, где все становится и никогда не есть. Но реальность должна где-нибудь существовать, и принимать все исключительно за иллюзию, за совершенный обман наших чувств невозможно. Даже бред больного предполагает существование мозга,— тем более этот мир, со своим бесконечным рядом явлений, поминутно взывающих к нашим элементарным органам чувств. Мы можем уподобить все воспринимаемые нами вещи волнам быстротекущей реки и, как таковые, признать их преходящими и недействительными; но кто может усомниться в существовании некоторой реальности, вызывающей эти волны и являющейся неизменным их субстратом, т. е. воды? Даже больше, взяв весь мир как одно целое и признав, что в нем все — одно лишь становление, т.е. переход из одного состояния в другое,— разве этим самым мы не предполагаем существования чего-то, что лежит в основе такого становления? Ведь для того, чтобы явление было переходом из одного состояния в другое, необходимо допустить существование чего-нибудь, которое бы становлялось — подобно тому, как, признавая данное явление за движение, мы этим самым допускаем существование того, что движется. Найти эту реальность и составляет основную задачу платоновской философии, и ответом на нее служит знаменитое учение об идеях. Представим себе группу вещей — предметов или явлений, — которые принято называть однородными, т. е. такими, которые, несмотря на все свое разнообразие в формах или признаках, заключают в себе некоторые основные свойства, общие всем входящим в данную группу вещам. Таковы будут, например, люди (Сократ, Аристид, Критий), деревья (береза, сосна, дуб), мебель (стол, стул, кровать), альтруистические чувства (великодушие, сострадание, любовь) и т. д. Несмотря на множество различий, отделяющих одни из этих вещей от других, входящих с ними в одну и ту же группу, они все-таки имеют нечто общее, которое делает их вещами этой группы, а не другой, именно теми, а не другими, — людьми, а не, например, зверями; деревьями, а не травой; мебелью, а не утварью; чувствами альтруистическими, а не эгоистическими. Это общее “нечто”, которым определяется принадлежность вещи к той или другой группе (т.е. роду или виду), состоит из так называемых постоянных признаков, объединяемых в родовое или видовое понятие. Мы в настоящее время полагаем, что эти понятия суть лишь абстракции, которые хотя и имеют свои корни в конкретных вещах, но вместе с тем не существуют нигде, кроме как в нашем уме: это — бытия субъективные, а не объективные. Но не так думал Платон. Теория абстрагирующего процесса была ему и всей предыдущей философии Греции совершенно неизвестна, и, подобно всем своим современникам, он не умел отделять логическое существование вещей от действительного. Все, что мы познаем, казалось ему, должно иметь объективное существование, так как иначе мы не могли бы его познать. Ничто, то есть небытие, мы познать не можем, так как оно не может возбудить в нас ни ощущения, ни впечатления: отрицать это, думал он, значило бы допустить, что ничто может произвести нечто; раз, следовательно, у нас имеется знание чего-нибудь, это что-нибудь должно существовать: в противном случае и у нас не было бы этого знания. Для всякой мысли поэтому должен существовать объект: сам факт ее постулирует это, и этот объект должен иметь действительное существование извне нашего ума. И вот Платон полагает, что то, что мы называем теперь понятием, а он — идеей вещей, имеет действительное существование, отдельное от этих вещей и независимое от нашей мысли. Те родовые и видовые признаки, которые мы считаем свойствами вещей, вне их несуществующими, являлись во мнении Платона свойствами идей, входящих в эти вещи в качестве составных их элементов. Взяв, например, ряд красивых вещей — красивое лицо, красивую статую, красивую мелодию, красивый переплет и т. д., Платон говорит, что эти вещи делаются красивыми оттого, что в них входит, с ними сочетается красота, т. е., что “только благодаря красоте красивые вещи становятся красивыми”. Эта красота есть идея красивых вещей, подобно тому, как человек есть идея Сократа, Аристида, Крития, а дерево — идея березы, сосны, дуба и т. д. Идея, таким образом, есть не что иное, как наше понятие, с той, однако, существенной разницей, что она в действительности, объективно существует. Идея есть бытие, живое воплощение всех родовых и видовых признаков вещей, — воплощение не отвлеченное, не субъективное, а конкретное и объективное. Она, так сказать, живая, кристаллизованная квинтэссенция всех вещей, входящих в одну и ту же однородную группу: она — человек по преимуществу и в отдельности от единичных людей, столь непохожих в частностях один на другого; она — дерево в отличие от единичных деревьев; она — животное в отличие от единичных животных, и т. д. Она — тип или, скорее, прототип, первообраз вещей, живой и существующий в действительности. Мало того. Платоновские идеи существуют не только для целых групп — родовых и видовых, — но и для единичных вещей и предметов, т. е. не только, например, для дерева вообще, и для березы в частности, но и для этой березы, а не другой в особенности. Какой-нибудь отдельный и определенный человек — назовем его Сократом — постоянно, в каждый момент, подвергается изменениям внешним и внутренним: различные положения, состояния, возраст и пр. беспрерывно изменяют его таким образом, что по истечении некоторого периода времени он как бы перерождается и становится другим человеком. Все же под всеми этими изменениями скрывается нечто такое, неуловимое, но реальное, в силу чего Сократ постоянно остается, в глубине своей сущности, тождественным с самим собой. Это “нечто” составляет как бы сущность Сократа, чистый тип его личности, — если можно так выразиться, — в различные моменты его жизни: оно и есть идея Сократа, существующая отдельно и объективно. Отсюда с достаточной ясностью вытекает учение Платона об отношении идей к предметам материального мира. Как чистые сущности вещей, составляющих группы, равно как и вещей единичных, идеи суть как бы воплощения этих групп и понятий вещей — типы коллективные и индивидуальные, которые делают данную вещь именно такой, а не другой. Без Красоты (мы обозначаем здесь платоновскую идею прописной буквой) не было бы красивых вещей, без Справедливости не было бы справедливых поступков, без Дерева не было бы отдельных деревьев; благодаря именно тому, что существуют эти идеи: Красота, Справедливость и Дерево — стало возможным, чтобы данные вещи могли сделаться красивыми, данные поступки — справедливыми и данные растения — деревьями. Идея по отношению к вещам играет такую же роль, как концепции художника или ремесленника по отношению к их произведениям. Художник, составляя себе концепцию богини Минервы, создает по ней целый ряд статуй, которые, несмотря на разнообразие в материале, форме и пр., становятся изображениями Минервы; точно так же и плотник, создав себе концепцию кровати, производит целый ряд предметов, которые есть кровать в силу этой концепции. Богиня Минерва и кровать в умах художника и плотника являются как бы типами и первообразами всех статуй и кроватей, ими сделанных. Точно так же и идеи суть типы или первообразы, по которым созданы вещи нашего чувственного мира. И, подобно тому, как статуи художника и кровати плотника суть как бы вещественные копии с их концепций, так и вещи чувственного мира суть не что иное, как вещественные копии с данных идей. Разница лишь та, что в то время, как концепции художника или плотника существуют лишь в их уме, идеи существуют в реальности. В качестве таких моделей вещей идеи первичнее их, и в то время как вещи изменчивы и бренны, как всякая копия, идеи должны быть неизменны, т. е. всегда абсолютно тождественными сами с собой и существовать от вечности до вечности. Кроме того, как кристаллизованные сущности вещей идеи существуют отдельно от последних,— но не наряду с ними, а исключительно: они — реальности не в ряду других, а реальности по преимуществу — единственные и абсолютные. Вещи же не обладают никаким действительным бытием; подобно отражению в зеркале они — неверные, неясные снимки, имеющие существование, да и то призрачное — только благодаря идеям. Вселенная поэтому распадается как бы на два мира: один мир — идей, единственно реальный, неизменный и вечный, а другой — вещей, призрачный, бренный и изменчивый; в первом обитают оригиналы и типы, во втором — копии и снимки; в первом ноумены, во втором феномены; в первом — бытие, во втором — становление. Платон иллюстрировал все это следующим поэтическим сравнением. Представим себе,— говорил он,— подземную пещеру с широким, но высоким отверстием к свету, а в пещере — людей, находящихся там со дня своего рождения и скованных по рукам и ногам, спиной к передней стене. Сзади них пылает яркий огонь, между ними и этим огнем, по тропинке, идущей вдоль отверстия, беспрестанно проходят люди, бросая тень в пещеру, на противоположную ее стену. Не будучи в состоянии повернуть головы и не зная, следовательно, что происходит за их спиною, люди в пещере видят одни лишь тени и естественно принимают их за действительные фигуры, за реальные существа. Но вот представим себе, что один из этих людей освобождается от цепей и выбирается через отверстие пещеры на открытый воздух, в незнакомый ему мир. В первые моменты, конечно, он ничего, кроме боли в глазах, не испытывает, но затем, мало-помалу привыкая к свету, он начнет присматриваться и видеть целый ряд новых, неизвестных ему вещей — небо, землю, воду, людей, деревья и пр. Сначала, если его кто-нибудь начнет уверять, что все, что он видит, — реальности, а то, что он раньше видал в пещере, — одни лишь тени их, он, вероятно, не поверит, — подумает, что над ним смеются, и, быть может, еще так обидится, что махнет рукой и полезет обратно в свою родную пещеру. Но предположим, что он — человек недюжинный и что у него хватит мужества выслушать все эти неприятные ему вещи: он начнет тогда проверять, сравнивать, ощупывать и размышлять и наконец согласится, что прежде он жил фантомами, — что он знал одни лишь тени вещей и что только теперь ему удалось постигнуть действительный мир. Быть может, движимый любовью к своим жалким собратьям, он возвратится в подземную мглу и начнет рассказывать про свои впечатления; но они поднимут его на смех, назовут свихнувшимся фантазером и если, при переходе от света к мраку, он еще на время ослепнет и не сможет различить даже и тени, проходящие по стене, над ним начнут еще острить и спрашивать, не оставил ли он там, наверху, свой ум и свои глаза, и т. д. Смысл этой басни ясен: пещера — это наш видимый мир, тени, проходящие на стене, — суть вещи этого мира, а люди, сидящие там и принимающие эти тени за действительность, — это мы сами, самоуверенные и упрямые слепцы, считающие вещи чувственного мира за реальность. Во всем этом есть, однако, пункт, настоятельно требующий разъяснений. Каким образом вещи становятся копиями идей? В силу чего, например, великое множество деревьев, именуемых березами и отличающихся во многих отношениях друг от друга, являются копиями с идеи березы, а не с другой? Каково действительное отношение вещей к идеям, так чтобы первые могли сделаться снимками с последних? Платон отделывается общими местами и говорит, что вещь участвует παδδυχυ β идее, что в ней есть нечто из того, что есть идея, что, наконец, подобно тому, как концепция художника воплощается в его статуе, так и идея воплощается в вещи. Но все ли этим сказано? Вряд ли! Сам Платон в одном месте сознается, что несмотря на то, что таково его убеждение на этот счет, он не смог бы объяснить, каким образом происходит это участие вещи в идее, а само это убеждение подвергает такой разрушительной критике в своем “Пармениде”, что позднейшим философам не осталось ничего, что можно было бы к ней прибавить. В самом деле, если идея как живой тип по существу своему едина и нераздельна, то как может она войти необходимым элементом во многое и разнообразное, не потеряв в то же время этого единства и нераздельности? Одно из двух: или идея входит в каждую отдельную вещь данной группы целиком, — тогда она перестает быть единой, или она входит в каждую вещь частью, — и тогда она перестает быть нераздельной. Философ сам не мог найти выхода из этой дилеммы, — тем менее можем мы. Но как бы то ни было, этим путем Платону удалось, оставаясь на почве Гераклитова положения о бесконечной изменчивости, а потому недействительности вещей материального мира, построить новый мир, где царствует вечная реальность. Вместе с тем он разрешил и другую проблему, тесно связанную с первой и выдвинутую греческой мыслью V века. То было знаменитое положение Протагора о том, что человек есть мера всех вещей. Как читатель уже знает из биографии Сократа, этот смелый философ, так же оставаясь все время на точке зрения Гераклита, не поколебался вывести из основного тезиса своего учителя заключение о крайней относительности нашего знания. Если чувственный мир находится в состоянии постоянного движения и изменения, то все наше знание отрывочно, неполно и несовершенно; мало того, так как феномены этого мира доступны лишь нашим ощущениям и чувственным восприятиям, а эти последние различны у различных индивидов, то это отрывочное, неполное и несовершенное знание не имеет даже объективной достоверности, а лишь субъективную. Истина, таким образом, не только неполна, но и относительна, и не только относительна вообще для всего человечества, но разнится в степени и значении для каждой отдельной личности. С этим Платон соглашался. И он говорил, что знание материального мира состоит исключительно из чувственных восприятий, а так как одна и та же вещь может восприниматься различно различными субъектами в различное время, то такое знание не в состоянии установить прочных фактов и исчерпать истинную природу вещей. Оно, словом, не объективно-истинное, а только мнение — нечто среднее между совершенным знанием и полным незнанием — соответственно с тем, как предмет этого мнения представляет лишь промежуточную стадию между бытием и небытием, т. е. становление, феномен. Объективно-истинное знание должно быть выше мнения и иметь дело с предметами более высокими, нежели те, которыми занимается последнее, т. е. предметами, представляющими реальное и неизменное бытие. Протагор таких предметов не видел, потому что не поднимался выше калейдоскопической игры явлений чувственного мира, где действительно их нет. Но у Платона они были: то были его идеи, составляющие мир сверхчувственных вещей. Познание этого мира и есть истинное знание, совершенное и полное, перед которым обращается в ничто всякое другое: оно не только знание par excellence[по преимуществу (фр.).], но и единственно возможное для человека,— другого знания нет и не может быть. Только потому, что у нас имеются идеи, возможно такого рода знание: уничтожьте первые, лишите их неизменности и вечности свойств, — исчезнет и второе, и останется одна софистика, где каждый толкует вещи по-своему и каждый по-своему прав. А подобно тому, как объект знания выше, нежели объекты мнения, самый способ достижения первого несравненно выше, нежели тот, которым достигается второе. В опровержение тех философов, которые отрицали движение и считали его за иллюзию, киник Диоген, говорят, вышел из своей бочки и торжественно прошелся взад и вперед, думая этим наглядно доказать нелепость подобных мнений. Конечно, такого рода победоносные аргументы были совершенно неуместны, так как противники его никогда и не думали отрицать, что иллюзия движения существует: они говорили, что это только иллюзия, видимость, но вовсе не объективно существующее явление. Подобным образом, говорит предание, этот же самый киник, не видевший дальше своего носа, вздумал показать несостоятельность платоновской теории идей, говоря, что он действительно видит и ощупывает бочку, но что он никак не видит и не в состоянии ощупать идеи бочки. Где же она,— спрашивает он. “И немудрено,— ответил ему Платон,— что ты ее не видишь: ты смотришь глазами, а не разумом”. Точно так же, прибавим мы от себя, Диоген мог бы утверждать, что он видит одни лишь буквы и строчки и не видит идеи автора, и думать при этом, что он прав, ссылаясь на свои чувственные восприятия, т. е. зрение, слух, осязание и пр. Дело в том, — учил Платон,— что эти чувственные восприятия имеют дело только с теми предметами, которые находятся вокруг нас, в материальном мире явлений, но они решительно не годятся, как только мы переступаем за пределы этого мира и стремимся познать предметы другого, высшего порядка: чувственные восприятия не у места в сверхчувственном мире, и там нужно пользоваться совсем иным орудием познания. Платон это орудие указал: это — разум, та высшая способность нашего ума, которая имеет дело с категориями бытия и вечности, а не с быстромелькающими феноменами нашего мира. При помощи его мы познаем идеи, т. е. достигаем знания подобно тому, как при помощи органов чувств мы знакомимся с вещами, т. е. приобретаем мнение, и как последнее состоит из отрывочных представлений вещей, так знание состоит из стройных концепций идей. Отсюда возникает вопрос: каким образом возможно для нас знание, когда объекты его, идеи, находятся вне условий нашего бытия, вне пространства и времени? Мы готовы допустить, что идеи, по самой сущности своей, недоступны нашим ощущениям, а только разуму; но каким образом может дойти до них разум сам? Вопрос трудный, и сама постановка его делает честь платоновскому гению. В самом деле, человеческий ум несовершенен и конечен: как же может он подняться над материальным миром, бренным и относительным, и дойти до познания вечного и абсолютного? Над этим “проклятым” вопросом тщетно билась метафизическая мысль в продолжение веков, сознавая, что от разрешения его в ту или другую сторону зависит само ее существование: если абсолют действительно доступен нашему познанию, то метафизика, которая им занимается, имеет полное и наивысшее право на существование; но если такое познание невозможно, тогда всякое учение бесплодно и мнимо, как писание по воде. Мы теперь знаем, в какую сторону склоняется разрешение этой проблемы: чуть ли не на глазах настоящего поколения метафизика получала одни удары за другими от науки и даже от ее собственных представителей, и недалеко уже то время, когда она будет вполне и навеки заброшена, как ее младшие сестры — астрология и алхимия. Мы начинаем все яснее и яснее сознавать, что такого рода знание, которого так настойчиво добивается метафизика, не только недостижимо, но что даже если бы оно и было достижимо, все же оно было бы бесполезно, так как мы вращаемся, живем и действуем в мире отношений, к которому абсолюты неприложимы. Мы постепенно теряем к метафизическим проблемам интерес, как мы потеряли интерес к задаче о квадратуре круга или к диспутам о происхождении первой материальной молекулы. Но не так оно было раньше, когда возможность объединить явления внешней и внутренней природы в общие законы и таким образом создать реальное и единственно полезное знание казалась немыслимой или, в лучшем случае, проблематической. Тогда каждый скептический кризис, в который периодически, с роковой необходимостью впадала метафизическая мысль, выдвигал вперед этот основной вопрос о возможности познания абсолюта и о способах его достижения. Платон, основатель метафизики, с гениальной прозорливостью увидел необходимость считаться с этим вопросом, и результатом явилась его знаменитая теория воспоминаний, — теория, прекрасная как сон или мечта, но и не более реальная, нежели они. Живые первообразы чувственных вещей — идеи — живут в надзвездной сфере, составляя особый мир. Чистые, без цвета, без формы, без протяжения, восседают они там, как божество, сияя вечной красою и истиной, недоступные никому, кроме Бессмертного разума. Но с ними обитали и души перед тем, как они ниспосланы были в наши бренные оболочки. Тогда, во время своего обитания в горних областях, они созерцали в немом восторге эти державные идеи, пропитываясь их светом и составляя себе точные понятия об истине и бытии; теперь же заключенные в телесную оболочку, как в темницу, они поставлены среди быстро несущегося потока жизни, имея перед своими взорами не вечность, не совершенства, не неизменность, а мелькающие феномены, полные только уродства и непостоянства. Но вместе с тем эти феномены суть бледные копии вечных идей, и перед мысленными взорами впечатлительной души раскрывается — смутно сначала, но яснее потом — другой, лучший мир, в котором она некогда жила и который был ей так дорог. Она начинает вспоминать, как мы начинаем вспоминать родные лица при взгляде на их фотографии, хотя бы от времени выцветшие: образы будят память, и мало-помалу, напрягая все свои силы, душа начинает подмечать знакомый облик идей среди шумного и несвязного вихря вещей и явлений. Чем полнее отрешается она от влияний внешнего мира, чем глубже всматривается она в пеструю игру явлений, тем ярче оживают в ней воспоминания, тем живей встают перед ней давно забытые образы идей. Она все выше и выше поднимается над чувственными восприятиями, чуждыми ей с самого рождения, и начинает постепенно создавать себе понятия, соответствующие ее воспоминаниям, — понятия, все более и более сложные, все более и более высокие. Такова теория, которую Платон выдвинул в виде разрешения вопроса о возможности для нас познать идеи — истинное, абсолютное бытие, в противоположность феноменальному становлению, доступному чувственному восприятию. Эта теория, как читатель видит, совершенно произвольна и не имеет за собой ни одного факта, на который она могла бы опираться. Но мы не станем здесь вдаваться в критику ее: это значило бы критиковать всю метафизику как систему и метод мышления; мы лишь укажем на тот факт, что эта самая теория, несмотря на всю свою необоснованность, под различными формами и с легкими изменениями прошла красной нитью через всю историю европейской философии. Ибо что такое знаменитое учение о врожденных идеях, державно господствовавшее вплоть до появления Канта и имеющее последователей и поныне, как не платоновская теория воспоминаний, приспособленная к новому миросозерцанию? Конечно, дух в картезианской философии ни о чем не вспоминает; но он рождается с теми же зародышами или, лучше сказать, с тем же потенциальным знанием, что и душа у Платона. И там, как и здесь, знание чувственного мира признается за мнимое, но в обоих случаях ощущения и восприятия играют роль стимулов, под влиянием которых дух человеческий достигает знания вечного и неизменного. Теории эти не тождественны, но сходны, и влияние одной на другую отрицать нельзя. Теория воспоминаний, важная сама по себе как попытка разрешить основную проблему о философском знании, получает в наших глазах еще большее значение ввиду тех выводов, которые непосредственно из нее вытекают. Душа, заключенная в тесную оболочку тела, начинает присматриваться к бесконечной смене внешних явлений и улавливать по снимкам первообразы вещей, которые она некогда видала лицом к лицу. Она начинает вспоминать свою первоначальную обитель, где ее жизнь была полна блаженного созерцания вечно сияющих идей: она начинает тосковать и рваться вон из давящей клетки к высоким небесам, к царству Добра, Истины и Красоты. Чем она чувствительнее, тем ярче горят воспоминания и тем сильнее ее жажда возвратиться в свою родную страну. Стены ее темницы заслоняют ей взор, телесные оковы отягчают ей крылья, но тем непреоборимее становятся ее стремления освободиться от связывающих ее пут. Нетерпение растет у нее по мере увеличения ее знаний; презрение и ненависть к чувственным предметам все усиливаются, и с затаенной тоской ждет она момента своего освобождения, одержимая одним страстным порывом перешагнуть за пределы земного существования. Небесные мелодии звучат в ее ушах немолчным призывом, и она прислушивается к ним в таком же восторженном экстазе, как святая Цецилия к звукам своего органа, ища за конечным — бесконечное и за смертным — бессмертное. С неподражаемым искусством великого поэта Платон рисует это в своем “Федре”, разворачивая перед нашими взорами картину дивной красоты. Мы тронуты ею: душа, словно готический собор, рвущийся в небеса, к возвышенным идеалам, прочь от серой, испошляющей действительности, представляет один из тех образов, которые постоянно поражают человеческое воображение, внушая безмолвное преклонение и жажду подражания. На этом фоне была построена вся духовная жизнь Западной Европы в первой половине средних веков, но Платон был первый, кто нам его дал. И это знаменательно. Древняя Греция, колыбель нашей цивилизации, жила жизнью здорового организма, не занимающегося ни разъедающим самоанализом, ни какими бы то ни было патологическими вопросами своего существования. Она не была мнительна и брала действительность как она есть, находя высшее для себя наслаждение в самом упражнении своих способностей и отправлении своих функций. Жизненный путь для нее не был ни миссией, ни испытанием, ниспосланными свыше; она его проходила, мало заботясь о том, куда он ведет; она безмятежно и светло глядела на все окружающее, лишь инстинктивно поворачиваясь к теплым лучам солнца, подобно египетскому цветку. Учение Платона было первою нотою скорби, пронесшейся в радостной дотоле атмосфере. Это был вздох, впервые вырвавшийся из человеческой груди, которая внезапно почувствовала тягость земной жизни. Люди остановились в смущении: откуда шел этот звук? Каков его смысл? И сразу все как бы стало ясно. Природа вовсе не так хороша, как они до сих пор думали; страдание и зло составляют преобладающие в ней силы; жизнь трудна и далеко не прекрасна, и наслаждения чувств мимолетны и ничтожны. Что же в таком случае этот мир? Где цель жизни? Человечество призадумалось — и с какой-то болезненной поспешностью, с каким-то злорадством стало рыться в глубочайших извилинах души и жизни, отыскивая в них бренное и призрачное, и отбрасывая и топча это все, как ненужный сор. Все было облито горьким ядом беспощадного анализа,— и с громким воплем отчаяния изуродованная, исполосованная душа, все еще жаждущая счастья, стала рваться вон из этих мест, где лежали ее разбитые идеалы и все дышало разрушеньем. Свод небес, вечно лазурный, вечно неизменный,— вот где живет истинное счастье и радость: туда душа должна стремиться, чтобы отдохнуть от бессмысленных страданий земной действительности и обрести новую, высшую и единственно светлую жизнь. Нездоровые условия общественной жизни лежат в основе платоновского стремления к идеалам и презрения к реальной жизни. История сама выдвинула основные мотивы такой философии, и они царствуют поныне. Исчезнут ли они когда-нибудь,— мы не беремся сказать, но спустя 20 с лишком веков они остались такими же свежими, какими впервые вышли из уст великого мыслителя. Учение об идеях в связи с теорией воспоминаний составляет сущность философии Платона, ее зерно. Эту часть, как уже сказано было, принято называть диалектикой в отличие от физики и этики, и переходом от первой к последним является учение об иерархии идей. Вещи чувственного мира расположены в известном восходящем и нисходящем порядке от частного к общему, от единичного к собирательному, от конкретного к абстрактному. Идеи, по отношению к которым эти вещи являются копиями, должны поэтому быть также расположены по известной иерархической лестнице, как, например, Сократ, человек, живое существо, организм, тело, бытие и т. д. — соответственно порядку, в каком идут наши понятия. Каждая идея включена в другую, более широкую, над нею стоящую, и в свою очередь включает в себя другую, менее широкую, находящуюся под нею, так что, весь мир идей представляется как бы одной сплошной цепью, в которой каждое звено входит в следующее, большее, нежели оно само. Таким образом, взяв самые низшие идеи (Сократ), мы найдем, что они являются как бы субстанциями, производящими сущностями — по отношению к видимым и вообще чувственным вещам, но лишь модусами, то есть формой проявления, для других стоящих выше ее по иерархической лестнице (человек и пр.). Так оно и со всякой другой идеей, где бы она ни находилась: она — субстанция для низших и модус для высших идей, и весь ряд завершается одной верховной идеей, которая уже ни для какой другой не является модусом, но для всех — субстанцией. То идея блага: она так относится ко всем прочим своим сестрам, как эти последние относятся к феноменам материального мира. Все идеи являются как бы средним членом отношения между идеей блага и нашим чувственным миром, а благо как бы солнцем всего мироздания. И подобно тому, как солнце дает нам свет, в котором мы только и можем жить, так и благо есть источник бытия: благо и бытие таким образом не тождественны, но как солнце выше испускаемого света, так и благо выше бытия. Оно есть причина всего существующего и, как таковая, оно есть Бог. Бог есть благо, а так как, по вышесказанному, благо есть источник бытия, то, значит, мир был создан оттого, что Бог всеблаг. Спрашивается, однако,— и это уже относится к области платоновской физики,— каким образом вообще мир стал возможен? Из каких элементов он был сотворен? Нужно сознаться, что Платон дал весьма неудовлетворительный или, в лучшем случае, неясный ответ на это. С одной стороны, мир не может быть чистым продуктом идей, т. е. иметь субъективное для них существование: предположить это — значило бы идти вразрез, как уже давно было замечено критиками, со всем дуалистическим характером античного мировоззрения. Платон был совершенно чужд того абсолютного идеализма, который был так резко установлен в XVIII веке Беркли. К тому же тогда непонятна была бы та бледнота копии, то несовершенство снимка, которые нас так поражают в феноменальном мире и которые можно лишь объяснить присутствием в нем некоторого начала, противоположного природе идей и противодействующего им. С другой же стороны, предположить существование такого начала в виде протяженной, ощутимой и косной материи — значило бы противоречить самому понятию об идеях как о бытии, которому исключительно принадлежат реальность и вечность. Где же исход? Что нечто, кроме Идеи, должно было существовать, прежде чем мир мог быть создан, является элементарным постулатом нашего разума: из ничего не может быть создано ничто, и для того, чтобы творить, необходим кроме творческого начала — в данном случае идеи — еще и материал. Но так как этот последний не может быть материальным, в строгом смысле слова, то остается допустить, что он был “ничто”. Читатель, мало знакомый с метафизическим методом мышления, быть может, не сразу поймет, как это нечто существующее может быть ничем, т. е., каким образом “ничто” может иметь положительное существование. Но он должен иметь в виду, что по основным канонам метафизики во всяком отрицании заключается положительный элемент, определяющий его специфический характер. Темнота, например, в силу этого положения, есть нечто большее, нежели простое отсутствие света: она есть несвет плюс еще кое-что, делающее из нее не состояние только, но еще и объективно, в действительности, существующее явление, отличное от других. Идея есть бытие; все, что ей противополагается, есть небытие; но это небытие есть нечто большее, нежели одно отрицание бытия: оно само есть своего рода бытие, объективно существующее. Из этого Гегель в середине нашего столетия выводил тождество бытия и небытия; но Платон до этого не доходил: метафизический парадокс играл у него другую роль. Идеи существовали от вечности; вне их существовало ничто (читатель заметит, что метафизикам нельзя сказать: вне их не существовало ничто), но это “ничто” само было чем-то. Чем же? Безграничной, неосязаемой, неопределенной формой протяжения без наполняющих ее тел. Кант, а за ним другие еще в большей степени показали, что пространство, как и время, есть необходимая форма нашего чувственного восприятия, — форма, не существующая независимо от тел и дошедшая до нашего сознания путем сравнения, сложения и отвлечения расстояний между этими телами. Платон думал иначе и придавал этой форме объективное существование, — концепция, которую хотя и трудно реализовать, но необходимо постулировать, — ибо, в противном случае, где разместились бы созданные тела и откуда взялись бы расстояния между ними? Эта-то форма, которая в качестве прямого отрицания идеи есть ничто, небытие, и представляет тот своеобразный материал, из которого Демиург создал чувственные предметы, уподобив их идеям. Она сосуществовала с Богом от вечности, но в состоянии неупорядоченного хаоса без определенных свойств, хотя и с известными возможностями. Мир поэтому есть сочетание двух противоположных начал, из которых одно — источник всего разумного, прекрасного и совершенного, а другое — нелепого, уродливого и грешного. Оба враждуют между собой, — и отсюда-то беспрерывное перехождение от одного к другому, от бытия к небытию. Но такой мир был бы мертвым, неподвижным миром, — огромным телом без жизни, без смысла, если бы в нем не обитала душа. Если внимательно присмотреться к окружающей нас природе, то мы не сможем не заметить удивительной целесообразности, господствующей в ней на каждом шагу. Объяснять ее механической игрой сил или атомов так же нелепо, как объяснять идейное содержание картины рядом бессмысленных движений руки художника. Работой последнего руководил не случай, а смысл, его кисть направлялась намеченной целью, и вся картина есть результат сознательной его деятельности и воплощение его разумной мысли. Тем более следует это сказать относительно вселенной, где каждое явление имеет свой смысл и свою цель. А если это так, то в ней должна обитать душа, ибо что такое разум, — эта сила, приспособляющая средства к целям, — как не часть, и притом высшая часть души? Это подтверждается еще живым примером человека. Он состоит из тела и души, как то показывает нам двойной характер его отправлений; и подобно тому, как первое есть не что иное, как часть мирового тела, состоящая из земли, влаги, огня и прочих космических элементов, так и душа должна быть частью мировой души, откуда она взята и куда по истечении времени вернется. Одно предполагает другое, как вдыхаемый нашими легкими воздух предполагает существование атмосферного воздуха. И как мировое тело неизмеримо больше нашего человеческого тела, так и мировая душа должна быть несравненно выше и совершеннее нашей человеческой души. Космос поэтому есть живой организм, где все приводится в движение, все направляется к цели и все оживляется силой и деятельностью души: он — живое существо, столь же сознательное и сознающее, как человек или зверь. Но откуда эта душа взята? Из чего она состоит? Бог, — говорит Платон, — взял оба от вечности существовавшие начала: неделимое и неизменное, и делимое и изменяемое, которые соответственно воплощены в идеях и в материальной форме; смешав эти два начала, он получил третье, нечто среднее между ними, и из всех этих трех начал создал мировую душу. Она, таким образом, состоит из трех элементов, и каждый из них имеет свою отдельную область, которую он животворит и познает. В первой находятся вечные и неизменные сущности — идеи; во второй — объекты чувственного восприятия, а в третьей — предметы смешанного характера, а именно, — так думал наш философ, — математические. Лишь только мировая душа соединилась с мировым телом, все стало приходить в порядок и гармонию: прежде всего образовались огонь и земля, а за ними, как пропорциональные члены великого космического отношения, воздух и вода. Огонь так относится к воздуху, как воздух к воде, а воздух так относится к воде, как вода к земле. Основная же форма огня есть тетраэдр, воздуха — октаэдр, воды — икосаэдр [Тетраэдр, октаэдр и икосаэдр — геометрические тела, ограниченные равносторонними треугольниками: четырехгранник, восьмигранник и двадцатигранник.], а земли — куб. Все мироздание представляется в виде огромного шара, по всем частям которого разлита мировая душа, приводящая в движение небесные сферы и планеты. В центре этого шара неподвижно покоится наш земной шар, пронизанный мировой осью. Вокруг земли на гармоничных расстояниях описаны круги, на которых — также отделенные гармоничными интервалами — находятся вечно движущиеся солнце, луна и пять планет. Кругом всего этого, в виде шарообразного покрова, раскинулся небесный свод, усеянный неподвижными звездами, и этот свод, равно как и солнце, луна и планеты, совершает каждые сутки полный кругооборот на мировой оси. Каждая звезда — такой же живой организм с телом и душою, как и наша земля. На подобные теории, понятно, невозможно смотреть как на вклад в науку: они лишь интересны как момент в истории человеческой мысли, когда она не видела еще необходимости считаться с фактами и находила возможным дать умозрительное объяснение всех тайн мироздания. На этом нам бы следовало остановиться, так как третий отдел платоновской философии — этика — не разработан в достаточной степени и не существует отдельно от его политического учения. Нравственность есть реализация высшего блага, но это невозможно иначе, как в государстве. Она проявляется только в общественной организации, подобно тому, как мысль проявляется во времени и пространстве. Государство, таким образом, является необходимым условием для достижения человеком нравственным своих идеалов: отсюда важность его и значение учения о нем. Все же мы можем очертить здесь вкратце некоторые основные взгляды Платона в области этики, которых нам вряд ли удастся коснуться при обзоре его политических доктрин. Индивидуальная этика, в отличие от общественной, ее исключающей, зиждется на психологии, т. е. учении о природе души. В противоположность досократовским философам, Платон считал душу субстанцией не материальной, но и не простой. В нее входят три различных элемента, как в мировую душу: элемент — вечный и неизменный, другой — бренный и изменчивый, а третий — сочетание первых двух. Первый есть седалище разума, познающего идеи; второй — обитель страстей, а третий — жилище духа (ρνριδ — “δух, мужество”; непереводимое слово). Из них бессмертен один лишь разум, но, тем не менее, все они связаны в одно целое. Платон поэтически воображал душу в виде возницы и двух крылатых коней, впряженных в колесницу. У богов — и возница, и кони благородны и бессмертны, у людей же только возница и один из коней: другой — низкого происхождения и нечистой крови. Души богов и людей живут вместе в царстве идей, но в то время, как окрыленные колесницы первых скользят по небесному своду с поразительной легкостью и быстротой, колесницы вторых следуют за ними с трудом и то и дело благодаря капризам строптивого коня склоняются и готовы упасть с вышины. Много требуется усилий, чтобы укротить и держать под уздой этого коня, и горе тому вознице, который не сумеет с ним справиться: с шумом и грохотом колесница падет с небесной твердыни, и душа, потеряв свои крылья, вынуждена будет войти в телесную оболочку. Тогда начинается ее земная юдоль, продолжающаяся 10 тысяч лет: во все продолжение этого времени она должна переходить из одного тела в другое, пока не отрастит своих крыльев и не сможет вернуться на свою родину. Участь ее печальна и тяжела, но та душа, которая одарена живым стремлением в небеса и презрением к земле, может войти в оболочку философа, и тогда ее земное скитание оканчивается в 3 тысячи лет. Отсюда — значение добродетели, потому что, как учил еще Сократ, добродетель есть благо, а благо души состоит в приближении к Божеству и в возвращении в небеса. Вместе с тем добродетель есть знание, и для каждой части души существует особый вид добродетели. Познавательная часть — разум — должна стремиться к истине, красоте и добру, этим трем естествам верховной идеи блага; оттого знание их или мудрость есть добродетель разума. Мужественная часть души — дух — должна помогать разуму, не опасаясь и не останавливаясь ни перед чем: оттого ее добродетель состоит в мужестве или знании того, чего нужно бояться и чего нет. Добродетелью же чувственной части души — страстей — должны быть умеренность и самообладание, т. е. знание того, чем можно пользоваться и чем нет, так как только строгим самообузданием может она содействовать остальным частям души в их стремлении к идеалам. И если каждая из этих частей будет исполнять свой долг как следует, то к добродетелям их прибавится еще одна, — а именно справедливость. Таким образом, страсти, или стремление к чувственным наслаждениям и вообще к удовлетворению своих чувственных потребностей Платон считает за противонравственный элемент человеческой натуры, который следует всячески подавлять и, если можно, совсем уничтожить. Здесь свинцовая туча аскетической морали впервые показывается на ясном дотоле горизонте античного мира, и хотя еще немало веков пройдет, пока ей удастся застлать весь небосклон, но и первые ее очертания, несмотря на их кажущуюся красоту, были уже достаточно зловещи, чтобы человеческая душа, подобно птице перед грозой, почувствовала беспокойство и смущение. В заключение — о пресловутой платонической любви, которую мы таки порядочно испошлили, перекраивая ее на наш болезненный или лицемерный вкус. Любовь, половую любовь, Платон никогда не думал отрицать или осуждать: напротив, он заходил иногда в своих взглядах на этот счет гораздо дальше, чем оно могло бы показаться позволительным в настоящее время. Но он выше ее ставил другого рода любовь, — а именно духовное слияние, совместное стремление двух натур к достижению философского знания, т. е. знания идей. Для такого союза высшей целью является истина, а восторги его заключаются в сознании этого общего стремления к божественной цели. В переводе на современные понятия и язык такая любовь есть идеальная форма дружбы, которая хотя и не исключает эроса, но настолько выше его, насколько моральные и интеллектуальные стремления выше чувственных. Платоническая любовь, следовательно, не отрицает половой, но вместе с тем она вырастает на духовной красоте, а не на телесной, и ищет не плотского, а духовного, не бренного, а бессмертного... ГЛАВА Значение политических взглядов Платона для настоящего времени. Утопии вообще и платоновская в частности. “Республика”. Возникновение обществ и их органические элементы. Ошибочность платоновских взглядов. Политические формы общества и их недостатки. Идеальное правление философов. Роль воспитания. В чем оно состоит: гимнастика, музыка, поэзия и математика. Значение этих предметов образования. Цели воспитания: распределение общественных обязанностей и прав и реализация высшего блага. Классы и их добродетели. Коренная ошибка платоновской схемы. Необходимость в обществе единодушия и согласия. Взгляды Платона на частную собственность и семью. Уничтожение обоих институтов. Брачное сожительство и положение детей. Неестественность платоновского режима. Положение женщины, ее права, обязанности и воспитание. Основной недостаток платоновского миросозерцания. Во всей системе философии Платона ничто, быть может, нас так не интересует, как его учение о государстве и вообще об обществе. Прогресс науки обнаружил несостоятельность большинства его взглядов в различных областях человеческого познания: попытка его отторгнуть завесу, отделяющую мир чувственный от сверхчувственного, и таким образом разрешить высочайшие проблемы бытия и знания признана в настоящее время — как и все ей подобные — тщетной и невозможной; его космогония, равно как и космология, низведены на уровень наивных фантазий, вызывающих ныне улыбку на устах даже школьника, и даже в психологии мы сделали достаточные успехи, чтобы умозрения нашего философа на этот счет казались нам грубыми и натянутыми. Не так, однако, обстоит дело с его политическими доктринами. Наука об обществе — социология — до сих пор является лишь благочестивым желанием, и та часть, которая занимается политическими отправлениями общественного организма, до сих пор не пошла дальше первоначальной эмпирической стадии. Кое-какие горизонты, правда, перед нами уже раскрываются, и мы, хотя еще и смутно, как в сумерках, начинаем уже мало-помалу различать тропу, по которой шли человеческие общества; но все же мы до сих пор еще не обладаем ни одним законом, который с большей или меньшей ясностью объяснил бы нам прошлое или послужил бы указанием для настоящего и будущего. Индуктивный метод до сих пор еще почти не приложим к явлениям общественного мира, сами факты либо не собраны, либо недостаточно определены, и в своей практической деятельности мы руководствуемся главным образом или требованиями момента, или общими априорными принципами. При таких условиях многое из того, что по этим вопросам говорил Платон, до сих пор еще не потеряло своего интереса и даже значения: быть может, будущая наука отвергнет и эти его доктрины, как отвергла другие; но пока, на той ступени, на которой находятся общественные знания в настоящее время, они для нас ценны и заслуживают полного внимания. “Республика” Платона начинает собой ряд тех произведений политического характера, которые рисуют нам типы наилучших, по мнению авторов, общественных организаций, обеспечивающих счастье личности. Такого рода картины принято называть утопиями, придавая этому слову значение неосуществимого, хотя бы даже и желательного проекта. Таких утопий в сущности было и есть очень много: каждый из нас, чувствуя в тот или другой момент несовершенство или неудовлетворительность данного общественного строя, составляет себе более или менее сознательный идеал социальной организации, которая бы удовлетворяла физическим и духовным потребностям человеческого существа. Редко, однако, кто из нас вырабатывает этот идеал во всех необходимых деталях и излагает его на бумаге в назидание современникам и потомкам; но такие попытки были, и их-то по преимуществу, называют утопиями. Платон, св. Августин, Томас Мор, Кампанелла, Морелли, Мабли, Кабэ, Сен-Симон и Фурье — вот ряд главных имен, не считая наших современников, таких, как Беллами, Гертцка и Вильям Моррис, с которыми связаны наиболее известные попытки дать картину совершенного общественно-политического строя. Самые же замечательные из них — это проекты Т. Мора, жившего в XVI веке, и Платона. “Утопия”, — фантастический остров, куда Мор перенес место действия своего рассказа,— сделалась нарицательным именем для всех подобных проектов; со вторым нам предстоит познакомиться в этой главе. Общественная организация, по Платону, вытекает из самих условий существования, в которые поставлен человек. Его организм беспрестанно расходует свои силы, и этот расход, необходимое условие его деятельности, должен быть постоянно восполняем. Пища, кровь и одежда являются поэтому предметами первой необходимости, без которых трата жизненных сил не может быть возмещена. Но может ли отдельный индивид удовлетворить всем этим нуждам? Платон думает, что нет, и в этой самонедостаточности личности видит причину возникновения человеческих обществ. Человек ищет других себе подобных, с которыми он соединяется для общей работы, и при их помощи устраивает жизнь так, что становится возможным удовлетворять всем главным потребностям жизни. Ясное, однако, дело, что каждый человек обладает некоторыми способностями, в силу которых он пригоден к известной работе больше, нежели к другой; к тому же, занимаясь постоянно одним и тем же делом, он приобретает больше сноровки и теряет меньше времени при переходе от одного занятия к другому. Естественно поэтому, что если каждый член общины изберет себе ту работу, к которой он наиболее способен, и станет заниматься ею исключительно, то все они, вместе взятые, успеют удовлетворить своим потребностям и скорее, и полнее, нежели в том случае, если бы каждый из них брался за различные виды деятельности. Разделение труда поэтому является первым и основным началом, на котором покоится человеческое общество, и, согласно указанным трем потребностям, в пище, крове и одежде, это общество не может состоять менее, нежели из трех-четырех человек: земледельца, плотника и ткача или сапожника; но земледельцу нужен плуг, плотнику — инструменты, а ткачу или сапожнику — станок, шилья или кожа; следовательно, и четырех человек будет мало: нужны кузнецы, механики и даже пастухи, которые пасли бы стада и занимались выделкой кож. Но и этого мало. Подобно тому, как человек не может жить один, так и общество не может жить изолированным: существует масса вещей, которые обществу необходимы, но которых оно не может по тем или другим причинам само производить. Является потребность в сношениях с другими общинами, у которых все это имеется,— и возникает торговля. Но торговля означает обмен, а обмен не может иметь места там, где нет излишка в продуктах. Нашему обществу поэтому необходимы земледельцы, плотники, ткачи и т.д., да еще и новый класс купцов, постоянно разъезжающих по соседним общинам и вывозящих и ввозящих товары. Даже этого мало: общество разрослось, каждый член его занимается своим делом, — как же будет производиться обмен продуктов в самом обществе? Сапожник, скажем, сделал пару сапог, но ему нужно поправить крышу: станет ли он теперь бегать по городу с сапогами в руках, ища плотника? А если последнему нужны не сапоги, а хлеб? Отправится ли сапожник, у которого жилище полно воды от дождя, льющегося через крышу, искать теперь земледельца, которому нужны сапоги, и, выменяв их на хлеб, побежит ли с последним к плотнику? Конечно, это абсурд: нужны лавочники и даже оптовые торговцы, которые специально занимались бы делом обмена. Но как насчет войны, наступательной и оборонительной? Людей теперь в нашей общине много: пожалуй, им может не хватить земли на пропитание. Что же делать? А у соседей как раз имеется полоска земли, которая, нужна ли им самим или нет, но во всяком случае весьма кстати пригодилась бы нашей собственной общине. Быть может, случится и так, что соседи почувствуют вожделение к нашей землице,— и в том, и в другом случае пойдут войны и появится, согласно требованиям разделения труда, и особый класс воинов, которые, чтобы успешно выполнять свое дело, также должны специализироваться, и т. д. Картина эта, понятно, не отличается большим историческим правдоподобием. Жизнь обществами не есть человеческое изобретение: она существует и у животных высшего типа и человеком лишь наследуется в эволюционном процессе наряду с прочими физическими, духовными и социальными свойствами и инстинктами. Разделение труда, — за исключением, быть может, самых элементарных форм, основанных на различии полов или возрастов, также не могло иметь места: первобытный человек не нуждался ни в крове, ни в одежде; пищу же он находил готовой на деревьях или в земле, и, срывая ее или выкапывая, он тут же ее и съедал. Но даже и на более поздних стадиях развития, когда ни открытое небо, ни закрытая пещера не могли более удовлетворять появившейся в человеке потребности в крове, и когда ни древесные листья, ни плоды или коренья не могли уже долее служить ему одеждой или пищей, — даже тогда, говорим, такого резкого разделения труда, как представлял себе Платон, не могло быть: охотник ли, пастух ли, или даже позднее земледелец — доисторический человек столь же часто сколачивал себе шалаш, как и метал стрелы или проводил борозду. Система разделения труда появляется поздно, и в той совершенной форме, в какой рисовал ее Платон, она не существовала даже в самой Греции. То же самое приходится сказать и об обмене и торговле: существование их среди самого общества предполагает целый ряд экономических категорий, таких как рынок, отчуждаемость продукта труда и частная собственность в более или менее развитой форме, которых никоим образом не могло быть при племенном и общинном коммунизме первобытных обществ. Как попытка, следовательно, проследить возникновение и развитие социального организма, эта теория не выдерживает никакой критики; но она важна по своим указаниям на те органические элементы, из которых, по мнению Платона, слагается и должно слагаться человеческое общество. В основе его лежат экономические потребности, и право в нем состоять членом обусловливается трудом, общественно полезным и необходимым. И вот наше общество устроилось, но для правильной и нормальной его жизни нужны законы, которые регулировали бы взаимные отношения его членов и обеспечили бы преуспеяние всего организма. Ввиду этого необходимы правители, издающие такие законы и наблюдающие за их исполнением. Такие люди также нужны — если еще не больше — как земледельцы, плотники, сапожники, купцы, торговцы и воины. Они и имеются в каждом из известных нам обществ, и согласно тому, в руках какого класса находится кормило правления, т. е. из какой среды исходят личности, издающие и исполняющие законы, Платон разделял — в “Республике” и “Законах” — все формы правления на три разряда. Прежде всего идет правление единоличное, которое, смотря по тому, законное оно или незаконное, т. е. добровольно ли народом вверенное или узурпированное, называется либо монархией, либо тиранией. Вторая форма правления — демократия— совершенно противоположна первой: правителем является сам народ в своей коллективной личности,— без всякого различия рода, ценза и интеллектуальных и моральных качеств; но и она может быть законная или незаконная, смотря по тому способу, каким овладела властью. Третья же форма, к которой Платон, как и его ученик Аристотель, имел наибольшее пристрастие, состоит в правлении класса богатых и способных,— это аристократия, которая, однако, если завладела государственным рулем насильственно, вырождается в олигархию. Под эту же форму Платон подводит и военную республику — тимократию, — где власть принадлежит сословию военных. Все эти формы правления казались ему, однако, более или менее несовершенными. Лучше всех, быть может, была бы монархия, но то обстоятельство, что она легко может перейти в тиранию, перевешивает все ее прочие достоинства и делает ее опасной для народного благосостояния. Демократия — также не без больших недостатков: народная толпа глупа, невежественна и полна предрассудков. Она изменчива, капризна и не умеет отличать истины от лжи. Она не владеет собой и легко делается игрушкой в руках красноречивого демагога и ловкого интригана. Лучше всего было бы правление людей отборных по своим способностям, серьезности и знаниям; но где их взять? Ни богатые, ни военные как таковые не вносят с собой достаточной гарантии тому, что их правление не перейдет в классовое, противонародное, олигархическое. Нужно поэтому создать новый класс, если мы желаем иметь государство совершенное, идеальное, — класс, который состоял бы из подобных отборных людей и которому исключительно была бы вверена задача государственного правления. Мы раньше видели, что для более или менее обеспеченного материально общества необходимы два обширных разряда граждан: тех — и это самые многочисленные, — которые заняты экономически производительным трудом, и других — чья роль состоит в поддержании общественной безопасности как извне, так и внутри. Для успешного выполнения возложенной на каждого из них задачи необходимо полное и абсолютное разделение между ними труда, сообразно их способностям и наклонностям, так чтобы член одного класса не только не мог вмешиваться в круг деятельности другого класса, но и не смел заниматься работой какого-нибудь члена своего же класса, то есть, чтобы сапожник, например, не только не мог высказывать свое мнение или принимать участие в делах военных, но не смел, бросив свое шило, вдруг взяться за портняжную иглу. Теперь же мы установили еще одно, — а именно, что обществу, желающему не только существовать, но еще и быть счастливым и совершенным, необходимо иметь отдельное сословие, правителей, взятых не наобум из того или другого класса, в силу каких-либо внешних отличий, но из людей, достойных по своим нравственным качествам и умственным способностям. И эти правители, в свою очередь, должны составить класс, т. е. быть связанными общим воспитанием, идеями и интересами в одну корпорацию повелевающих, по отношению к которым все остальные граждане являются повинующимися — подданными. Каков же это класс? Каковы его квалификации? Это философы — люди, стоящие на высоте культуры и достигшие реального знания, т. е. знания идей. “До тех пор,— провозглашает наш мыслитель основной канон своего политического учения,— до тех пор, пока философы не станут царями или цари и князья не проникнутся духом философии, так чтобы политическая сила и мудрость соединились в одно, а люди с низшими способностями были совсем исключены из этих сфер, — до тех пор, говорим мы, государство — нет, само человечество — не избавится от зла. Только тогда, когда все устроится, как мы говорим, идеальное государство осуществится и будет преуспевать”. Спустя целый ряд столетий этой же самой мысли, почти в тождественной форме, суждено было возродиться в мозгу другого человека, а именно Сен-Симона (Огюст Конт, который, как известно, также провозгласил подобное мнение, был учеником последнего). Так мало за этот громадный период времени — двадцать три века — успели двинуться вперед наши политические идеи! Мы не беремся судить, насколько осуществление этой мысли было бы желательным для человечества: быть может, зло от атрофии гражданских функций большей части общества перевешивало бы то благо, которым сопровождалось бы усиленное приложение освобожденной энергии к сфере личного самосовершенствования; но вопрос не в этом, а в том, осуществима ли эта мысль вообще? Исторический опыт показал нам, что нет,— что люди не настолько бескорыстны, проницательны, безошибочны, чтобы, при отсутствии общественного контроля и соучастия, какой бы то ни было класс мог успешно править государственной ладьей на исключительное благо народа. Личные и классовые интересы и предрассудки, индивидуальные недостатки и идиосинкразии и бесчисленное множество других обстоятельств мешают возникновению и существованию идеальных правителей, какие рисовались воображению Платона, Сен-Симона и других: это коренится в несовершенствах не одной какой-нибудь страны, не одной какой-нибудь эпохи, а всего человечества и всей истории. Игнорировать этот факт так же невозможно, как игнорировать само несовершенство нашего духовного и физического существа; и современное человечество, или по крайней мере Западная Европа, должна была после вековых страданий отказаться от подобной мечты и осознать, что нет другого залога общественному благополучию, кроме как в самодеятельности общества. Все же мы не должны думать, что Платон закрывал глаза на трудности, лежащие на пути к достижению идеала; по крайней мере он понимал, что такие совершенные личности, как его правители, не рождаются, а в лучшем случае — если они вообще возможны — делаются: отсюда преобладающее, можно сказать, огромное значение у него воспитания. Мы ниже увидим, какие еще другие цели преследовало воспитание в платоновском государстве; теперь посмотрим, в чем оно состояло и каким образом вырабатывались достойные правители. Роль воспитания принадлежит самому государству, на руки которому ребенок передается чуть ли не с первого дня своего рождения. Начинается оно, как и следует ожидать, попечением о физическом развитии будущего гражданина,— попечением, которое в сущности никогда не прекращается до самой его смерти. Но уже с того самого момента, когда в ребенке пробуждается сознание, начинается его систематическое нравственное и умственное воспитание, и здесь Платон предвосхищает идеи Руссо и новейших педагогов, которые поняли значение ранних впечатлений на духовную натуру человека и настаивают на необходимости для здорового ее развития тщательно подобранных влияний с раннего младенчества. С трех приблизительно лет вплоть до юношеского возраста, лет до 16, беспрерывно тянется образование в тесном смысле этого слова: изучение мифов, гимнастические упражнения, чтение и письмо и, наконец, музыка, в которую включается и поэзия. Первые, т. е. мифы, должны, конечно, быть очищены от непристойных элементов, нравственных и религиозных, и иметь исключительной целью пробуждение в ребенке эстетического чувства и воображения. Под гимнастикой следует подразумевать не те упражнения, которые имеют в виду образование атлетов с целью побеждать на публичных играх, а военную выправку, ловкость, стойкость и выносливость — точь-в-точь так, как было в Спарте. Нужно учить детей владеть оружием, переносить тяжести лагерей и походов и закалять их против всякого рода физических влияний и невзгод. Нужно внушать им чувство беспрекословного повиновения и любовь к скромному образу жизни, не терпящему ни роскоши, ни даже комфорта. Но главными факторами нравственного воспитания должны быть музыка и поэзия: они возбуждают сильные и возвышенные чувства, они наполняют воображение высокими образами, вызывая вместе с тем жажду подражания, и, наконец, развивают в нас то чувство гармонии, ровности и уравновешенности, которое для грека было драгоценнее всего прочего. Платон, однако, был убежден, что в том виде, в каком эти два искусства существуют, они совершенно непригодны для воспитательных целей. Сила их могуча,— тем тщательнее должны они быть очищены от зловредных элементов, могущих нанести хрупкой человеческой нравственности неописуемый вред. Есть, например, виды музыки, которые по тем или другим причинам способны вносить одну лишь деморализацию: одни — вульгарны по стилю, другие — неестественны по форме, третьи — просто бессодержательны, а четвертые — не вызывают других эмоций, кроме сладострастия, изнеженности, лени, и т . д. Такая музыка должна быть совершенно исключена из идеального государства: в нем она должна быть строга по форме, важна и медленна по темпу и возвышенна и вместе с тем проста по содержанию. Только при таких условиях она может сделаться первоклассной общественной силой, — “цитаделью и оплотом государства”, всякое изменение в которой, — говорит Платон, — неминуемо ведет за собой коренное изменение и в законах государства! Но еще большее внимание следует обратить на поэзию. Большинство поэтических творений страдают теми же недостатками, что и музыкальные, да к тому же еще и сюжеты их далеко не всегда подходящи. Платон приводит целый ряд произведений того времени, в которых авторы дают самые превратные понятия о мире, о Боге, о жизни за гробом, о душе, и доказывает, что громадное большинство их способно внушить лишь дурные страсти и безнравственные наклонности, вроде трусости, лицемерия, изнеженности, пьянства, жестокости и т. д. Он считает поэтому необходимым выкинуть из существующей поэтической литературы — даже из Гомера — все те места, которые, по его мнению, вредны, и для вящей безопасности решается совершенно изгнать из государства современных поэтов, наравне со всеми прочими жрецами искусств не подходящих под его идеал: они-де, все до одного, учителя ложной морали, достойные за свой талант быть украшенными венками, но за свое пагубное влияние на нравы — быть выпровоженными за пределы страны. Только сочинители философских диалогов, религиозных драм и благородных мифов оставляются, остальные должны быть высланы. С 16 лет юноша начинает изучать математические науки: геометрию и астрономию. Мы не должны удивляться тому значению, которое придавали этим наукам древние греки вообще и Платон в частности. Многих отраслей знания, которые теперь существуют, тогда еще не было совсем, а из тех, которые тогда уже были в зачатке, как, например, медицина, ни одна еще не перешла за первоначальную эмпирическую стадию своего развития. Одна лишь математика — и, главным образом, геометрия — стала уже слагаться в организованную систему со всеми признаками науки. Знание математики казалось поэтому знанием par excellence, и человеческий ум не то с благоговением, не то с чувством трепета останавливался перед его поразительными истинами, его непреложными выводами и своеобразным методом, так резко отличавшимся от грубых, так сказать, на ощупи основанных методов прочих отраслей знания. Воображение возбуждалось чудесами математики, знакомство с ней казалось сверхчеловеческим, и люди, обладавшие им, являлись чуть ли не полубогами или по крайней мере мудрецами. Платон смотрел на все это точно так же, как и его современники; но в его глазах изучение математики имело еще то крупное достоинство, что подготавливало и приучало людей отрешаться от чувственных восприятий, улавливать неизменное под изменчивым, — словом, ставило их на тот путь, который ведет к познанию идей. Математика, таким образом, была органическим элементом в платоновской системе воспитания, и ею в сущности заканчивается для большинства граждан теоретическое образование. В 18 лет они вступали в практическую жизнь, занимаясь в продолжение двух лет главным образом военным искусством. На 20-м же году происходит нечто вроде экзамена или просева: те из молодых людей, которые не обнаружили достаточных умственных способностей и нравственных достоинств, вроде неподкупности, прямоты и пр., но которые вместе с тем достаточно мужественны и бесстрашны, остаются в классе воинов: на них возлагается дело защиты государства от внешних и внутренних врагов. Но те, которые отличались и в том, и в другом, идут дальше и продолжают свое воспитание и образование с целью подготовиться к посту администраторов и законодателей. До 30 лет эти люди занимаются всеми существующими науками в их внутренней и взаимной связи: это как бы высшее образование, имеющее целью не столько увеличить количество знаний, сколько развить в учащихся способности к самостоятельному и правильному мышлению. Тогда опять те, которые не обнаружили больших успехов, занимают низшие административные и исполнительные должности; остальные же приступают к изучению высочайшей из всех наук, этому венцу человеческого познания, — к диалектике, науке об идеях. Они постигают все тайны мироздания и становятся философами, способными созерцать чистое бытие — истину, добро и красоту. Эти-то люди, цвет страны, превосходящие всех сограждан своими умственными и нравственными качествами, и делаются, спустя известное число лет, проведенных в практической деятельности, правителями государства. Читатель, надеемся, не попрекнет нас за то, что мы остановились на платоновской системе воспитания: оно играло у него слишком большую роль, чтобы можно было ограничиться парой слов. Оно вырабатывало класс философов-правителей,— элемент в общественной организации, который, по мнению нашего мыслителя, отличает идеальное и совершенное государство от всякого другого. Но оно ведет еще и к другим результатам. Прежде всего оно делает возможной ту классификацию граждан по способностям и наклонностям, на которой основывается разделение труда и установление классов, — два основных устоя платоновской республики. Человеку дается полная возможность развивать свои способности в той или другой сфере и приобретать соответствующие знания: в какой из этих сфер он покажет наилучшие успехи и в какой, стало быть, он сможет быть наиболее полезен обществу, — к той его и приставят. Этим обеспечится maximum производительности наличных сил страны. Но выше всего этого стоит главная и общая цель воспитания, а именно — развитие в людях добродетели, т. е. реализация высшего блага. Добродетель, если не тождественна со счастьем, есть во всяком случае его причина, как порок — причина зла, а так как единственный raison d'être [смысл существования (фр.).] государства есть обеспечение за каждой личностью, входящей в его состав, наибольшей суммы этого счастья, то главным и конечным предметом забот его должна быть добродетель, т. е. выяснение нравственных идеалов и насаждение их в сердцах и умах людей. В чем же добродетель состоит? Мы знаем, что душа мировая и человеческая состоит из трех элементов: рационального, иррационального, или чувственного, и среднего между ними —мужественного; точно так же и государство слагается из трех классов, совершенно аналогичных этим элементам. Первый класс — класс философов — соответствует верховной части души — разуму: и тот, и другой правят, и тот, и другой имеют дело с идеями. Второй класс — воины — представляет не что иное, как общественное, так сказать, воплощение второго элемента души — духа, который хотя и противоположен разуму (классу философов), но всегда является его помощником и союзником. Третий же, самый низший класс,— класс работников,— занимающийся физическим трудом, вполне сходен с третьей, низшей частью души, имея дело с материальными предметами и никогда не поднимаясь выше феноменального мира. Отсюда естественно, что и добродетель, или нравственное совершенство каждого из этих классов должно быть аналогично добродетелям соответствующих частей души: первый класс достигает высоты своего призвания, когда он обладает знанием идей или мудростью; второй не иначе может выполнять свои обязанности, как будучи мужествен, а третий должен видеть свой нравственный идеал в самообладании и повиновении. Эти добродетели представляются более чем целями, к которым классы должны стремиться: они суть необходимые условия существования класса как такового: без мудрости нет философов и правителей, без мужества нет воинов, и без самообладания и повиновения нет рабочего сословия. Каждый из этих классов должен практиковать свою добродетель, и только ее одну,— подобно тому, как каждый обязан заниматься исключительно своим делом: в этом заключается основное требование справедливости,— добродетели, общей для каждого гражданина без различия классов. Платоновское государство состоит, таким образом, из трех сословий, резко отделенных одно от другого родом деятельности и нравственными стремлениями. Схема, конечно, в высшей степени искусственная, принимающая общество скорее за механически сколоченное здание, чем за организм компактный и цельный, медленно, но беспрерывно развивающийся. Но здесь, быть может, важно не столько то, что наш философ считает возможным искусственно построить такое общество — хотя, конечно, и это крупное заблуждение, от которого мы не вполне еще избавились и поныне, — сколько то, что, по его мнению, раз навсегда установленные формы общества постоянно для него пригодны и целесообразны. Он не видел динамической стороны социального организма и не знал, что количество, интенсивность и взаимоотношения в нем сил постоянно меняются и что, следовательно, смена форм является не только естественной спутницей, но и необходимым условием общественного прогресса. Мечтать поэтому о том, что обществу можно обеспечить наибольшую сумму блага, втиснув его в раз навсегда застывшие, окостенелые, хотя бы и совершенные формы, не только напрасно, но и противоречит требованиям социального прогресса. Эта глубокая ошибка лежит в основе всего дальнейшего развития платоновской схемы. Государство не должно быть ни слишком малым, ни слишком обширным, а как раз таких размеров, которые удовлетворяли бы материальным нуждам народа и требованиям нормального общежития. Оно не должно быть также ни слишком бедным, ни слишком богатым: в первом случае оно терпело бы нужду, порождающую разного рода зло, физическое и нравственное, а во втором — появились бы на сцену роскошь, разврат, тунеядство и прочие пороки — детища богатств. Вообще, — говорит он, — во всех странах, где имеются большие богатства, господствует вместе с тем и крайняя бедность: государство не составляет одного целого, а распадается как бы на два отдельных класса — богатых и бедных, постоянно между собою враждующих и борющихся. В его государстве заниматься производством материального богатства будет один лишь третий, самый многочисленный класс; остальные же два будут жить трудом последнего, получая от него определенное и скромное содержание. Такой режим предотвратит образование в государстве указанных двух экономически противоположных классов и устранит одну из главных причин междоусобиц, так часто ведущих к гибели общества. Однако и этого недостаточно: зависть и ревность — два могущественных чувства, вырастающих на институтах частной собственности и семьи, — являются весьма важными факторами деморализации и разложения в общественной жизни. Эти чувства, стало быть, также надлежит уничтожить, а для этого не остается ничего другого, как вырвать с корнем сами институты. Этот пункт в платоновской схеме более, нежели какой-либо другой, вызывал и продолжает вызывать враждебную критику; но замечательная вещь: всякий раз, как общественные реформаторы принимались строить подобного рода социальные схемы, они неминуемо доходили до тех же или аналогичных заключений. Вряд ли, конечно, кто из таких реформаторов смотрел на эти институты с точки зрения исторического момента и видел в них закономерные категории, появляющиеся на известной стадии общественного развития. Вряд ли они видели ту тесную между ними связь, в силу которой учреждения являются двумя соотносительными результатами одного и того же общего экономического движения, и, наконец, едва ли для них была вполне понятна та чисто экономическая роль, которую, к благу ли или несчастью народа, частная собственность играет в его жизни. Они могли лишь констатировать выплывающие на поверхность отрицательные явления, вроде недовольства или преступлений против личности, являющихся обычными и печальными результатами существования “моего” и “твоего”; но этого было для них достаточно, — в особенности для Платона, перед глазами которого совершалось быстрое и неудержимое разложение афинской политики благодаря беспрестанной борьбе поземельных собственников с денежной буржуазией. В идеальном государстве этого не должно быть: правящие классы, философы и воины должны жить как одна семья, не встречая никаких поводов к раздорам и спорам в сталкивающихся желаниях присвоить в свою исключительную собственность или пользование те или другие вещи. За исключением того, что абсолютно необходимо для немедленного потребления, у них не должно быть ничего такого, про что они могли бы сказать: это — мое. У них нет ни отдельных домов, закрытых для остальных граждан, ни другого имущества или имения, на которые тот или другой индивид имел бы исключительные права. Все принадлежит всем сообща, — и даже стол у них должен быть общий, как на острове Крит или в Спарте. То же самое и относительно семьи. Платон видит всю деликатность этого вопроса, который люди всеми силами стараются не затрагивать, и перед которым, как перед святыней, останавливаются и опускают руки самые дерзкие радикалы. Философ долго колеблется, прежде чем выразить свое мнение на этот счет, — это мнение столь необычайно. Однако вопрос этот столь первостепенной важности для жизни общества, что трусливое замалчивание его недостойно серьезного политического мыслителя. И он решается: институт семьи должен быть разрушен, т.е. всякое более или менее продолжительное сожительство мужчины и женщины с вытекающими из него обязательствами, нравственными и материальными, как по отношению друг к другу, так и к детям. Не говоря уже о том, что обладание женщиной в смысле исключения всех прочих мужчин может легко подать повод к зависти, ревности, преступлениям и даже междоусобицам, — само существование семьи вносит противоречивый элемент в государственную организацию, как ее понимал Платон. Философы и воины существуют только для государства и не должны иметь никаких других интересов, кроме общественных; между тем семейная организация как бы обособляет личность, замыкая ее в отдельный мирок и вводя в ее мысль посторонние заботы. Тут, стало быть, дело даже не в том, что человеку часто приходится попадать в фальшивое положение и идти на компромиссы в желании примирить интересы лично-семейные с общественными: уже одного того факта, что он перестает принадлежать всецело государству, достаточно, чтобы осудить семью как элемент противогосударственный. Женщины должны принадлежать всем и никому, причем функция деторождения должна служить исключительно целям государства и стать под его контроль. Философы периодически решают вопрос о числе потребных государству граждан и назначают известные праздники для брачных союзов, в которые могут вступать мужчины лишь между 25- и 45-летним возрастом, а женщины между 20- и 40-летним: этот-де период наиболее нормален и обеспечивает физическое и духовное здоровье детей, и всякие сношения до него считаются вредными, нечистыми, а потому преступными. Эти союзы происходят не в силу взаимной склонности обеих сторон, но по указаниям правителей, которые постановляют — кому с какой женщиной сойтись. Красивейшие и благороднейшие женщины, чья любовь наиболее драгоценна, отдаются тем гражданам, которые либо по своим физическим и нравственным достоинствам, либо по своим выдающимся заслугам стоят выше всех своих соперников: они являются как бы призами для достойнейших, стимулируя их к благородному соревнованию, и вместе с тем делаются матерями прекраснейших детей, — ибо, — говорит Платон, — в государстве надлежит придерживаться того же принципа, что и в хозяйстве, где мы подбираем подходящую самку для данного самца так, чтобы получить потомство желаемого типа. Эта цель — доставить государству способных граждан — становится у Платона господствующей; ради нее он забывает благо личности, для реализации которого только и существует идеальное государство; и во имя ее он приносит в жертву все, что мы считаем наиболее дорогим и святым. С беспощадно прямолинейной логикой утверждает он, что дети, родившиеся больными и уродливыми или сверх назначенного комплекта, должны быть немедленно убираемы прочь и безжалостно умерщвляемы. Такую же участь должны разделять и здоровые младенцы, но явившиеся на свет от родителей, перешагнувших за законный возраст, 45 и 40 лет, когда брачные союзы могут совершаться беспрепятственно, но должны быть бесплодны. Как только ребенок рождается и оставляется в живых, его немедленно отнимают у матери и отсылают в дальние воспитательные дома, куда матери поочередно приходят и кормят всех находящихся там детей безразлично: ни ребенок, таким образом, не знает своей матери, ни мать — своего ребенка, но все дети, родившиеся на 10 месяце после известных праздников, называют отцами и матерями всех тех, которые в то время сошлись в брачном союзе. Этим окончательно отнимается почва, на которой могла бы сложиться частная семья: вместо нее вырастает семья общественная, в пределах и интересах своих совпадающая с самим государством. Нам неудобно входить здесь в оценку подобных взглядов на семью с точки зрения общественного института: она, пожалуй, и неуместна будет в этом очерке. Но мы не можем не отметить того факта, что, увлеченный своими высокими идеями о государстве, Платон создал не только воображаемое общество, но и воображаемых человеческих существ. Он лишил их плоти и крови и сделал какими-то ходячими единицами, имеющими значение лишь постольку, поскольку они идут на составление общей суммы — государства. Он отнял у них благороднейшие психические потребности — в любви половой и родительской, — и оставил им одну лишь физиологическую функцию; да и эту последнюю философ не прочь был бы стереть с лица воображаемой земли, если бы считал возможным или нашел способ увеличить народонаселение, не прибегая к ней. Мы не можем признать режим, который он предлагает, возможным или даже желательным: контроль в области брачных союзов, быть может, до некоторой степени и необходим, но он не должен переходить за пределы человечности и обращать общество в конный завод. В тесной связи с вышеприведенным стоят взгляды Платона на положение женщины в обществе. В эпоху, когда жил Платон, она уже оставила свою прялку и вышла из своего терема-гинекея, о котором мы читаем у Гомера, и, не имея еще юридических прав, тем не менее, уже стала человеческой личностью и общественной силой. Но наш философ пошел еще дальше. Он равно далек был от рыцарского ей поклонения, под которым лишь скрывается презрение к ней как к существу вечно несовершеннолетнему, и от того буржуазного лицемерия, которое хочет видеть в женщине воплощение “тихих добродетелей” или “украшение домашнего очага” и вместе с тем отсылает ее на фабрику или на улицу. Для Платона женщина была прежде и после всего человек с теми же правами и обязанностями, что и мужчина, и согласно с этим он хочет, чтобы она получила то же самое воспитание и образование в поэзии, в музыке, гимнастике, математике и пр., и занимала те же государственные посты, что и тот. Философ хорошо знал, какого рода доводы приведут против него его противники, но он знал также и как им ответить. Ему укажут на анатомические и физиологические различия в организмах женщин и мужчин и напомнят его же принцип, в силу которого различия в силах и способностях должны вести — если уже не для блага самой личности, то по крайней мере для блага общества — к соответствующему различию в обязанностях и правах. Он не отрицает силы этого аргумента и не старается от него уклониться, но указывает, что этот аргумент к делу вовсе не относится. На свете, — говорит он, — существуют плешивые и не плешивые: следует ли из этого, что одним мы должны отвести сферу деятельности менее привилегированную, нежели другим? Конечно, нет, потому что в таких вопросах мы должны принимать в соображение не всякие особенности в физической или духовной природе людей, а только те, которые так или иначе имеют отношение к данному роду деятельности. Плешивость нисколько не мешает человеку быть мудрым или мужественным и, следовательно, выполнять обязанности правителя или воина; но разве большей помехой являются известные особенности женского организма и, в частности, функция деторождения? Платон решительно отрицает это: он убежден, что между способностями и силами мужчины и женщины не существует никакой качественной разницы, которая оправдывала бы резкое разграничение в правах и сферах деятельности их. Правда, — говорит он, — и история доказала ненадобность даже этой уступки, — правда, существуют некоторые занятия, как, например, прядение или стряпня, где женщины от природы отличаются больше, нежели мужчины, но из этого всего не следует, что мы должны всех их без исключения засадить за ту или другую из этих работ: среди женщин, как и среди мужчин, есть такие, которые более способны быть философами, нежели кухарками, или отличаются в телесных упражнениях больше, нежели в пряже. Обратить поэтому всех женщин в прях или кухарок было бы так же нелепо, как обратить всех мужчин в воинов или в философов; все зависит исключительно от рода способностей, которыми одарена личность, а никак не от пола ее. В силу этого Платон и требует, чтобы женщина имела доступ ко всем занятиям и общественным постам наравне с мужчиной, и чтобы единственным критерием в распределении этих занятий была не принадлежность к тому или другому полу, а обладание теми или другими на то данными. “Итак, — заключает Платон, — закон, который мы предлагаем, вполне согласен с требованиями природы, а потому — не невозможен и не фантастичен; тот же порядок вещей, который существует на деле, в действительности представляет не больше, как нарушение естественного права”. За женщиною, таким образом, признается полная государственная правоспособность, и, освобожденная от тех обязанностей и трудов, которые сопряжены с семейной организацией общества, она делается правителем или воином, как и мужчина. Естественно, что ввиду этого она должна вместе с мужчиной пройти через одну и ту же систему воспитания и образования, и здесь Платону вновь приходится отвечать на некоторые возражения противников, — возражения, которые с таким же апломбом выставлялись тогда, как и теперь. Насчет поэзии и музыки дело еще сносно: пожалуй, даже обучение этим предметам придаст женщине некоторую пикантность, которой раньше в гинекеях не было места. Но как насчет математики или философии? Не убьет ли это все, что так привлекательно в ней, что ей наиболее к лицу, что составляет даже отличительную ее особенность, — именно то неуловимое нечто, которое зовется женственностью? А еще более гимнастика, при занятиях которой она по правилам должна будет обнажаться: ведь это значит заведомо отнимать у нее ее лучшее украшение и охрану — стыд и прямо толкать ее на путь безнравственности и разврата! Но Платон смеется надо всем этим: для него подобные возражения отзываются лишь предрассудками, которые, он уверен, исчезнут с течением времени, когда эти ныне столь шокирующие порядки потеряют характер новизны. Люди привыкают ко всему: они привыкнут и к этому, и все, что теперь кажется бессмысленным и безнравственным, станет казаться естественным, как если бы оно существовало спокон века. Что же касается необходимости для женщин обнажаться при гимнастике и таким образом подвергаться насмешкам и опасностям, то Платон не без сарказма замечает, что было бы очень печально, если бы женская нравственность охранялась одной лишь одеждой. Он лучшего мнения о женщине, нежели все эти рьяные идеологи “женственности”, и считает вполне возможным, чтобы она сохранила свою скромность несмотря на наготу. Пусть, — говорит он, — добродетель служит ей одеждой, пусть она ей будет броней и защитой от посягательств на ее чистоту: тогда женщина сможет безнаказанно обнажаться и разделять с мужчиной труды военные и правительственные. Во всем этом слышатся знакомые нам нотки, и мы не знаем, чему больше удивляться: прозорливости ли и благородству платоновских взглядов на женщину как на человеческую и гражданскую личность или тому, как стары возражения противников женской эмансипации, которые мы слышим еще и теперь, в современный нам век. Во всяком случае Платон был первым из европейских мыслителей, который сумел отрешиться от вековых предрассудков и стать на высшую точку зрения, с которой женщина перестает оцениваться как самка и приобретает значение человеческого существа. Идеал был высокий, — столь высокий, что нужен был целый ряд столетий, чтобы он стал достоянием всего человечества и мог приблизиться к реализации. Мы старались изложить как можно яснее и подробнее политические взгляды великого мыслителя. Что они по тем или другим причинам не вполне реалистичны, сознавал уже сам Платон, который в конце своей жизни должен был отказаться от них и составил другой проект, ближе принимавший в соображение действительные условия жизни. В своем сочинении “Законы”, оставшемся, к сожалению, неоконченным, он дает картину общества, построенного уже на других принципах, где нет места ни резкому разделению на классы, ни общности имущества и женщин. Но первый проект все же остался его наиболее любимым детищем, и, быть может, когда час его смерти был близок, ни о чем он так не жалел, как о том, что не мог привести его в исполнение. К сожалению, мы в настоящее время не могли бы разделять ни тех восторгов, ни тех надежд, которые, по-видимому, Платону внушала его утопия. Человеческая мысль движется вперед, и одно из самых ценных ее завоеваний состоит в уменьи определять в каждый данный момент пределы возможности для осуществления того или другого идеала. Мы отказались бы поэтому от платоновских идеалов как от неосуществимых, даже если бы они были совершенны; но они к тому же никогда и не были такими. Не вдаваясь в частности, мы спросим лишь одно: где в платоновском государстве народ? Мы знакомы с философами, мы знаем воинов, но нигде, собственно, мы не видим народа. Там, где-то глубоко внизу, во мраке и удушье копошится серая масса, подобно нагим рудокопам в шахтах или черным муравьям в земляном муравейнике: народ ли это? Какую роль он играет? Как он живет? Страдает ли? Мыслит ли? Нам неизвестно: мы знаем лишь, что он работает на все общество и что общество живет его трудом, но за исключением этого народ с ним не имеет ничего общего. Для кого же в таком случае и для чего строит Платон свое государство? Не для горсти ли философов и не для того ли только, чтоб обеспечить им досуг для “философствования” и дать возможность устраивать политические эксперименты? Народная масса у Платона — это та толпа гребцов-невольников, которою приводится в движение государственная ладья; она нужна, потому что обществу нужны физический труд и черная работа, но иного места, как в трюме, ей нет: там она должна жить и работать, не зная ни света, ни счастья, ни того, что происходит наверху. Она стоит вне политической организации, как те илоты, на которых покоилось спартанское общество; она создана не для себя, а для философов, и все толки об обязанностях к ней последних теряют всякий реальный смысл. ИСТОЧНИКИ 1. Платон — Opera, 3 torn., Paris, 1846—1873, ed. Didot, Recog. Hirschig, Schneider и др. [Издан в русский перевод.] 2. Диоген Лаерций — Vitae Philosophorurn (см. биографию к Сократу), 3-я кн. 3. Плутарх — Vitae Dio, Paris, 1847, ed. Didot, Recog, Döhner. [Издан русский перевод.] 4. Дж. Грот — Plato, London, 1867, 2-е изд., 3 тома. 5. Дж. Г. Льюис — The History of Philosophy (см. биографию к Сократу), стр. 196-274. [Издан русский перевод.] 6. Ф. Ибервег-Гейнце — Grundriss der Geschichte der Philosophie (см. биографию к Сократу), §§ 39-43. [Издан русский перевод.] 7. Э. Целлер — Die Philosophie der Griechen (см. биографию к Сократу), стр. 337-835. 8. С. Steinhart — Plato's Leben, Leipzig, 1873. 9. P. Märkel — Plato's Ideal-Staat, Berlin, 1881. 10. Ch. Huit —La Vie et l'oeuvre de Platon, Paris, 1893, 2 torn. 11. C. Bénard — Platon, Paris, 1892. 12. Chaignet — La vie et les écrits de Platon, Paris, 1871. 13. A. Fouillée — La Philosophie de Platon, Paris, 1888-1889, 4 tom. 14. Примечания и критические введения проф. Джоуэтта в его переводе Платоновых диалогов на английский язык. По материалам биографического очерка E. Орлова |