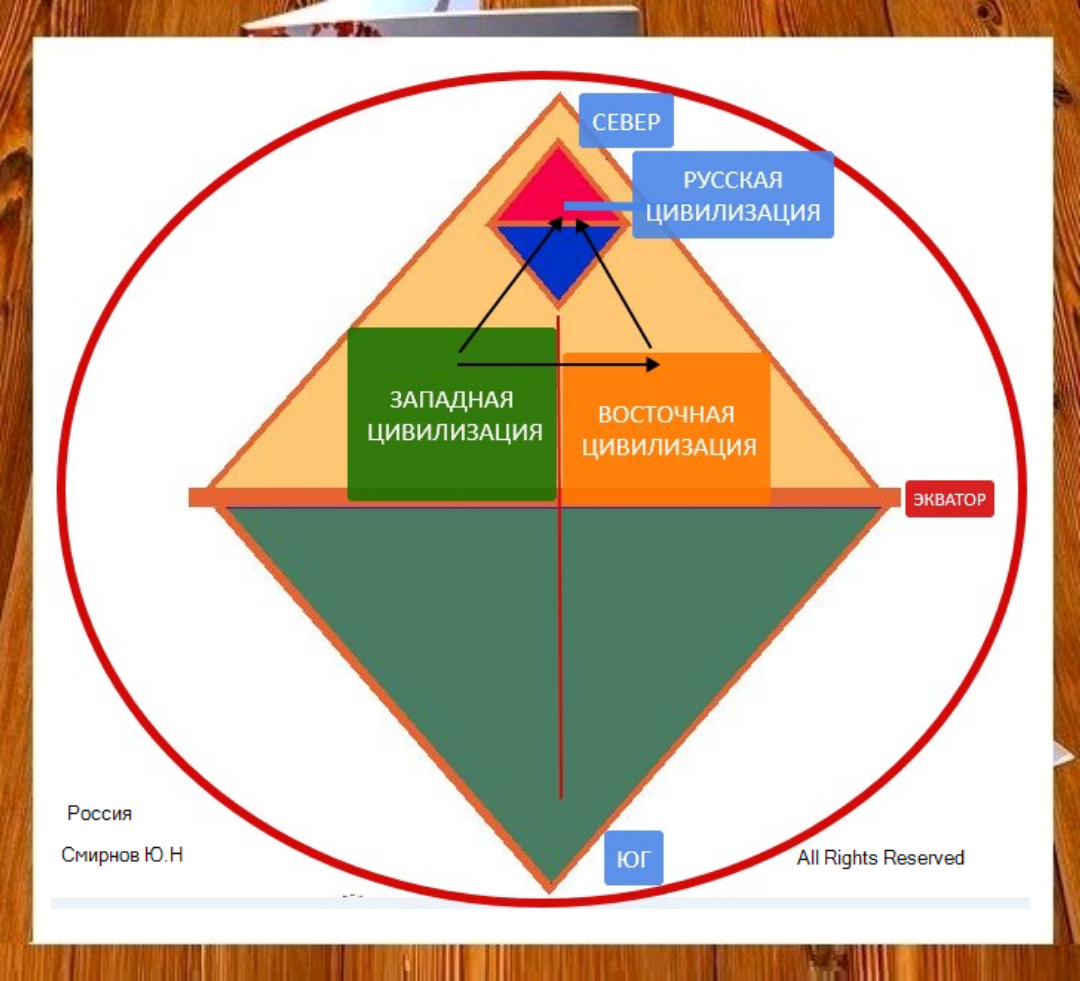|
Новости медицины и общественной жизни, бесплатные рефераты и курсовые. Интересные факты и полезная информация. |
|
|
РЕНЕ ДЕКАРТ. ЖИЗНЬ, НАУЧНАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬI. Детство и отроческие годы II. Годы скитальчества III. “Некая универсальная наука, служащая для извлечения истин из каких угодно предметов” IV. В Голландии V. Философия Декарта VI. Глава школы VII. Последние годы ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ Семья. Смерть матери. “Маленький философ”. Ла-Флешская коллегия. Воспоминания Декарта о школьных годах. Жизнь в Париже. Душевный перелом. Род Декартов принадлежал к незнатному чиновному дворянству — так называемой noblesse de robe. Пополняя свои ряды представителями отчасти мелкого дворянства, отчасти высшей буржуазии, noblesse de robe держала в описываемую эпоху в своих руках весь административный и судебный механизм Франции. Не представляя замкнутой касты, она благодаря наследственности покупных должностей и значению, придававшемуся в старой Франции мелким классовым перегородкам, превратилась в особое сословие и являлась едва ли не самым культурным слоем старой Франции: в интересующую нас эпоху, кроме Декарта, из нее вышли Ферма и Паскаль. Сама семья Декартов не отличалась, однако, особенной интеллигентностью. На тайну происхождения гения знакомство с семьей великого французского мыслителя совершенно не проливает свет. Это была заурядная дворянская семья. Духовные интересы были здесь положительно слабы, и философ в родной своей семье чувствовал себя совершенно чужим: его не понимали и считали выродком, так как он не хотел служить, тратил свое состояние на опыты, не исполнял своей обязанности содействовать продолжению рода. Наиболее обстоятельный из биографов Декарта, Балье, тщательно отмечающий все добродетели его предков и родных, может поставить им в заслугу только то, что они никогда не заключали неравных браков, плодились, размножались и содействовали приумножению родового состояния. Другая ветвь рода Декартов далеко не с таким блеском поддерживала честь своего дворянского имени: она впала в такую бедность, что была сделана попытка привлечь ее к платежу поземельного налога taille, которым в старой Франции обложены были люди “подлого звания”. Та ветвь, из которой вышел философ, никогда не подвергалась подобному унижению. Благодаря удачным бракам она владела обширными поместьями в Турени, Бретани и Пуату и потому (такова была логика старого порядка) никогда не платила поземельного налога. Один из представителей последней ветви, Иоахим Декарт, советник бретанского парламента, женился на болезненной и слабогрудой Жанне Брошар. Брак был “равным”, но не особенно счастливым: молодой женщине пришлось пережить тяжелые потрясения, с которыми старший брат Декарта не нашел возможным подробнее познакомить Балье и которым приписывали ее раннюю кончину. За шесть лет супружества Жанна родила мужу двоих детей: мальчика и девочку. На седьмом году, во время третьей беременности, у нее стала развиваться скоротечная чахотка. 21 марта 1596 года она в маленьком городке Ла-Гэ (La-Haye, в Турени) разрешилась от бремени сыном и через несколько дней умерла. Родился слабый, хилый ребенок, которому врачи предсказывали раннюю смерть. Благодаря попечениям кормилицы, здоровой нормандки, Рене остался жив, но до двадцати лет короткий, сухой кашель и бледный цвет лица внушали опасения за его жизнь. Детство Рене провел в Турени, славившейся садами, плодородием и мягкостью климата, но ни к родной своей провинции, ни — в особенности — к ее обитателям он не выказывал впоследствии большой привязанности. Детство Рене, видимо, не было богато счастливыми впечатлениями, и, быть может, не без влияния на это обстоятельство был тот факт, что отец его вскоре после смерти первой жены ввел в свой дом новую хозяйку. Единственное светлое воспоминание из детских лет было у Рене связано с товарищем его игр, маленькой девочкой, страдавшей косоглазием. Впоследствии, выясняя влияние ассоциации идей на возникновение у нас инстинктивных симпатий и антипатий к незнакомым людям, он говорил, что к косым всегда питал особенную нежность. Ненормальные отношения, установившиеся между Рене и прочими членами семьи, лишили биографов возможности собрать более подробные сведения об его детстве. Мы знаем только, что отец называл его своим “маленьким философом”, из чего можно заключить, что пытливость его ума рано обратила на себя внимание. Рене было восемь лет, когда, несмотря на слабое здоровье, его решили отдать в школу. Было ли вызвано это решение желанием сбыть с рук постылого ребенка или же признанием невозможности дать даровитому мальчику подходящую умственную пищу в не особенно интеллигентной семье, мы не знаем. Около этого самого времени Генрих IV, предпочитая видеть иезуитов своими сторонниками, чем врагами, отменил указ парижского парламента 1594 года об изгнании иезуитов из Франции, разрешил им вернуться в королевство и повелел учредить в городе Ла-Флеш (в Анжу) иезуитскую коллегию. Желая выказать ордену особенное внимание, король подарил коллегии свой дворец в Ла-Флеш, обеспечил ее большими средствами и завещал после смерти перенести в церковь коллегии свое сердце. Желание короля было исполнено раньше, чем он предполагал. Спустя шесть лет по возвращении во Францию иезуитов, Генрих IV был убит Равальяком, и в 1610 году, когда Рене был в первом философском классе, состоялась печальная церемония перенесения в Ла-Флеш сердца популярнейшего из французских королей. Обеспеченная большими материальными средствами, отданная в руки деятельного ордена, коллегия в Ла-Флеш скоро сделалась одним из лучших учебных заведений Франции. Орден всегда отводил видное место в своей деятельности воспитанию юношества и, не имея недостатка в ученых и талантливых людях, тщательно выбирал учителей для своих школ. Деятельность иезуитов на политическом поприще, положение, занятое ими здесь в качестве боевого авангарда католической реакции, до сих пор не позволяет относиться справедливо к заслугам их в области школьного дела. Между тем, заслуги их в этой области несомненны и крупны. Современники, даже не разделявшие политических и религиозных убеждений иезуитов, восторгались их школами; Бэкон ставил иезуитские школы в образец педагогам своего времени. Теневые стороны иезуитской педагогики общеизвестны: мелочный, полицейский надзор за жизнью и чтением учащихся, разжигание их самолюбия распределением по разрядам, отметками и наградами, поощрение внешнего благочестия, развивавшее в детях ханжество и лицемерие, — все это были приемы, вредно отзывавшиеся на нравственности детей. Но справедливость обязывает нас заметить, что рядом с теневыми сторонами существовали в иезуитской школе и симпатичные, представлявшие прогрессивное явление в области школьного дела. Крупной заслугой иезуитов было то, что они сделали среднее образование бесплатным и общедоступным. Бесплатность обучения предписана была знаменитым школьным уставом (Ratio studiorum), составленным в 1599 году, и предписание это соблюдалось так строго, что, когда некоторые правительства, руководимые узкими классовыми интересами, пытались заставить иезуитов ввести плату за обучение, они закрывали свои коллегии. Иезуиты не делали также исключения для детей лакеев и кухарок; будущий комедиант Мольер сидел у них на одной парте с принцем крови Конти и пользовался одинаковым с ним вниманием со стороны учителей. Уже много лет спустя по выходе из школы Декарт в письме к другу, просившему у него совета относительно воспитания сына, с большим уважением отзывался о своих учителях и указывал на “равенство, которое они устанавливают, одинаково обращаясь со знатными и простыми”. Декарт справедливо указывает, что такое соединение в школе детей различных общественных групп имеет важное педагогическое значение: “получается такая смесь характеров, что через сношения и разговоры между собою дети научаются почти столько же, сколько научились бы, если бы путешествовали”. Точно так же не делалось никаких ограничений по отношению к иноверцам. Иезуиты высоко ценили сближающее влияние школы, старались привлечь в нее иноверцев и, требуя от своих воспитанников-католиков строгого соблюдения регламента, делали исключение в пользу детей иноверцев, когда того требовали их родители. Иезуитам принадлежит еще одна важная реформа в области школьного дела: они сделали преподавание светским. Внушая своим питомцам убеждение, что в религиозных вопросах они должны беспрекословно следовать авторитету своих духовных руководителей, они перенесли богословские предметы в специальные классы, предназначенные для подготовки будущих богословов, а в общих классах ограничивались коротеньким катехизисом. Каковы бы ни были мотивы, побудившие их осуществить эту важную реформу, не подлежит сомнению, что она была в духе времени и что светский характер преподавания более соответствовал потребностям детей, чем практиковавшееся в других школах того времени забивание детских голов богословскими тонкостями. Тем не менее, программа школы была неудовлетворительной. В основу преподавания были положены классические языки — латинский и греческий (что в XVI веке, только что пережившем эпоху гуманизма, было последним словом педагогики). Целью преподавания ставилось научить учеников свободно говорить и писать на латинском — тогда международном научном языке. Преподавание носило преимущественно грамматический характер. Родной язык был в пренебрежении. Декарт впоследствии смущенно оправдывался перед Мерсенном за многочисленные орфографические ошибки “Диоптрики” и шутя выражал надежду, что никто не будет учиться французскому правописанию по книге, напечатанной в Лейдене иностранцами. Арифметика в низших классах, по предписанию устава, должна была преподаваться легко, между делом, но в течение восьми лет проходился полный курс математики. Прочие предметы сваливались в одну кучу под общим наименованием “эрудиция”. “Эрудиция” представляла курьезную смесь обрывков из самых разнородных областей ведения: в нее входили рассказы из истории, нравы различных народов, иероглифы, эмблемы, эпиграммы, эпитафии, кое-что о римском и афинском сенате, о военном деле у греков и римлян, о сивиллах, о триумфе, о садоводстве, пифагорейские символы, пословицы и сравнения, любопытные истории, изречения оракула и другое в том же роде... “Эрудиции” иезуитская школа с полной откровенностью ставила вполне определенные задачи. Не давая сколько-нибудь солидных знаний, она должна была дать знания показные, при помощи которых можно было бы придать научный облик светскому разговору, щегольнуть ученостью в проповеди. На развитие красноречия иезуитская школа обращала усиленное внимание, и с этой целью между учениками часто устраивались словесные турниры. Реальных знаний иезуитская школа, таким образом, не давала. Она ставила себе целью, как и современная школа, только механическую “гимнастику ума”. Но этот отрицательный результат покупался несравненно менее дорогой ценой. Переутомления учащихся, той эпидемии неврозов, которая вырывает теперь столько жертв из молодежи еще прежде, чем она вступает в жизнь, иезуитская школа не знала. Устав обращал серьезное внимание на физическое здоровье учащихся. Занятия продолжались не более пяти часов в день, причем классный день делился на две половины, отделенные промежутком в три с половиной часа. Все уроки обязательно разучивались в классе. Для слабых здоровьем учеников делались льготы. Декарту, ввиду слабого его здоровья, разрешено было до позднего часа оставаться в постели и он посещал только уроки послеобеденные. Привычку допоздна лежать в постели Декарт усвоил себе на всю жизнь и считал те часы, которые он проводил по пробуждении, размышляя в постели, лучшими часами своей умственной работы. Обращая серьезное внимание на развитие памяти у учащихся, устав категорически запрещал задавать выучивать наизусть более четырех строк зараз в низших классах, более семи — в высших. Излишнее обременение учащихся, кроме того, предупреждалось введенной в иезуитских школах классной системой преподавания: все предметы класса велись одним учителем. Заучивание наизусть не более четырех строк, разучивание уроков в классе при пяти часах занятий в день, предоставление остального времени играм, фехтованию и танцам — все это вызовет, вероятно, презрительную улыбку на лицах некоторых современных педагогов, питающих органическую ненависть к “лентяям”, играющим вместо того, чтобы, заткнувши уши, сидеть за книжкой. Со стороны же педантов XVI и XVII веков педагогические приемы иезуитов вызвали единодушный вопль негодования. Все они в один голос кричали, что иезуитская школа развращает юношество легкостью преподавания; настоящею школой казалась им каторга, калечащая детей умственно и физически, тогда как из иезуитских коллегий выходили здоровые, полные сил молодые люди. Зато среди родителей и учащихся иезуитская школа пользовалась популярностью, какой с тех пор не знала средняя школа. Популярности ее в значительной степени католическая церковь обязана восстановлением своего влияния во многих местностях, утраченных было в эпоху Реформации. Как бы то ни было, программы были неудовлетворительны и знаний школа не давала. Грамматики латинская и греческая не давали пищи детскому уму и не удовлетворяли его любознательности. Точно так же не давали ответа на занимавшие учеников вопросы и высшие “философские” классы, в которых преподавание носило университетский характер: здесь заканчивалась математика, проходились метафизика и собственно философия, под которой в описываемую эпоху понимались естественные науки и физика. Но здесь неудовлетворительность преподавания зависела не столько от программы, сколько от состояния науки в данную эпоху. Блестящее научное движение, которому суждено было составить славу XVII века, еще только начиналось, и один из создателей новой науки сидел еще на школьной скамье в лафлешской коллегии. Достигнутые уже научные успехи не стали еще общепризнанными истинами, и к важнейшему научному приобретению эпохи — учению Коперника — даже такие выдающиеся умы, как Бэкон, относились с насмешкой. В школе царила схоластика. Давно уже переставшая соответствовать умственному уровню эпохи, она доживала последние дни. Разлад между жизнью и школой, отставшей от нее на несколько столетий, никогда не проходит безнаказанно: преподавание становится формальным и утрачивает способность влиять на умы. Те самые положения, которые некогда Абеляр с воодушевлением развивал перед тысячами учеников, стекавшихся к нему из всех стран не ради карьеры, не ради связанных с дипломом чинов и теплых местечек, а потому что в кажущихся нам теперь столь смешными “здешностях” и “всегдашностях” они искали и находили ответ на мучившие их вопросы, эти самые положения теперь равнодушно излагались плохо верившими в них людьми, излагались потому, что того требовала программа. В школе создавалась атмосфера апатии, равнодушия и неудовлетворенности. В 1612 году Декарт закончил школу. Он провел в ней восемь с половиной лет, и плоды его занятий, как он сам сообщает, были таковы: “Я полагал, что достаточно уже отдал времени языкам, а также чтению древних книг с их историями и вымыслами. Беседовать с писателями других веков — то же, что путешествовать. Хорошо в известной мере познакомиться с нравами разных народов, дабы более здраво судить о наших и не считать смешным и неразумным всего, что несогласно с нашими модами, как нередко делают люди, ничего не видавшие. Но если слишком долго путешествовать, то можно сделаться чужим своей стороне, и кто слишком интересуется делами прошлых веков, обыкновенно становится несведущим в том, что происходит в его веке... Я высоко почитал красноречие и был влюблен в поэзию, но полагал, что это более дарования ума, чем плод учения. Те, чье разумение сильнее и кто лучше располагает мысли, так что они становятся ясными и понятными, всегда лучше, чем другие, могут убедить в предлагаемом, хотя бы говорили по-нижнебретонски и никогда не учились риторике. А те, кто одарен привлекательностью изобретения и способен выражаться с прелестью и изяществом, будут наилучшими поэтами, хотя бы искусство поэзии им не было знакомо... Я чтил наше богословие и не менее кого-либо другого рассчитывал обрести путь к небу. Но узнав, как вещь вполне достоверную, что путь этот равно открыт не сведущим, как и ученейшим и что откровенные истины, к нему ведущие, выше нашего разумения, я не осмеливался подвергать их слабости моего рассуждения и думал, что, дабы предпринять их исследование и успеть в том, надлежит получить чрезвычайную помощь свыше и быть более чем человеком. О философии скажу одно. Видя, что она от многих веков разрабатывается превосходнейшими умами и, несмотря на то, нет в ней положения, которое не было бы предметом споров и, следовательно, не было бы сомнительным, я не нашел в себе столько самоуверенности, чтобы надеяться на больший успех, чем другие. И принимая в соображение, сколько относительно одного и того же предмета может быть разных мнений, способных быть поддержанными учеными людьми, тогда как истинным необходимо должно быть какое-нибудь одно из них, я стал все, что представлялось мне не более как правдоподобным, считать за ложное”. Одна математика Декарту особенно нравилась верностью и очевидностью рассуждений, и он удивлялся, как на столь прочном и крепком фундаменте не воздвигнуто что-либо более возвышенное, чем механические искусства. Еще грустнее звучат слова, в которых Декарт подводит общий итог своим школьным годам: “Я с детства был вскормлен на книжном знании, и, так как меня уверяли, что с помощью его можно получить ясное и твердое познание всего полезного для жизни, то я имел чрезвычайное желание приобрести его. Но, как только кончил курс учения, завершаемый обыкновенно принятием в ряды ученых, я совершенно переменил мнение, ибо очутился так запутанным в сомнениях и заблуждениях, что старанием моим в учении достиг, казалось, одного: более и более убеждаться в моем неведении. А между тем я учился в одной из славнейших школ в Европе и полагал, что если есть на земле где-нибудь ученые люди, то именно там должны быть таковые. Я изучал там все, что изучали другие, и, не довольствуясь преподаваемыми сведениями, пробежал все попавшиеся мне под руку книги, где трактуются сведения любопытнейшие и наиболее редкие. Вместе с тем я знал, как думают обо мне другие, и не видел, чтобы меня считали ниже товарищей, хотя некоторые между ними назначались уже к занятию мест наших наставников. Наконец век наш казался мне цветущим и обильным высокими умами не менее какого-либо из ему предшествовавших. Все это дало мне смелость по себе заключать и о всех других и думать, что такого знания, каким меня первоначально обнадеживали, нет в мире”. Приведенные строки написаны Декартом много лет спустя после того, как он оставил школу, и мотивировка их носит на себе печать здравого смысла и умеренности, характеризующей зрелый период его творчества. Не подлежит, однако, сомнению, что они точно передают душевное состояние Декарта в эпоху его выхода из школы. Школа добилась громадного, почти чудесного эффекта: у юноши, в высшей степени любознательного, у ума, отличительной чертой, господствующей страстью которого была страсть к знанию, она сумела вызвать отвращение к знанию и к науке. Рене шел семнадцатый год, когда он вернулся к своим в Ренн. Он забросил книги и научные занятия и проводил все время в верховой езде и фехтовании. Но было бы ошибочно думать, что мысль его в это время спала. У этого в высшей степени творческого ума всякие впечатления тотчас же перерабатывались в законы и обобщения: результатом его фехтовальных забав явился “трактат о фехтовании”. Весной 1613 года Рене отправился в Париж: молодому дворянину нужно было позаботиться о приобретении светского лоска и завязать в столице необходимые для житейских успехов связи. Старик Декарт, по-видимому, доверял рассудительности своего сына, так как отправил его в Париж, превратившийся уже тогда в новый Вавилон, одного, в сопровождении только камердинера и лакеев. В Париже Рене познакомился с ученым францисканским монахом Мерсенном, автором весьма двусмысленного комментария к книге Бытия, при чтении которого благочестивые люди покачивали головами, и математиком Мидоржем; но доверия отца не оправдал. Он попал в компанию “золотой молодежи”, вел рассеянную жизнь и увлекся карточной игрой. Светские приятели Декарта, однако, жестоко ошибались, если считали его одним из своих. После полутора лет рассеянной жизни в юноше вдруг произошел перелом. Тайком от своих друзей и парижских родных он перебрался в уединенный домик в Сен-Жерменском предместье, заперся здесь со своими слугами и погрузился в изучение математики — главным образом, геометрии и анализа древних. В этом добровольном заточении Декарт провел около двух лет. Не побудило его покинуть уединение даже такое событие, как созыв Генеральных штатов 1614— 1615 годов. Это были последние Генеральные штаты старой Франции. Депутаты привезли с собой наказы от сословий, требовавшие тех реформ, какие были произведены спустя много лет при уже совершенно другой обстановке. Но в то время между сословиями существовали еще рознь и взаимное недоверие; депутаты от дворянства на замечание депутатов третьего сословия, что они видят в них старших братьев, надменно ответили, что расстояние между ними такое же, как между господами и слугами; третье сословие еще было недостаточно сильным, чтобы принять на себя руководящую роль. По прошествии полугода правительство нашло, что депутаты устали, и предложило им “отдохнуть”. Отдых продолжался долго — 175 лет и привел к результатам, которых вряд ли ожидали советники малолетнего еще тогда Людовика XIII. Слепое игнорирование народных нужд и требований вызвало ту страшную катастрофу, которая потрясла до основания старую Францию и возвела на эшафот правнука Людовика XIII. Вопросы, волновавшие тогда французское общество, Декарта занимали мало: он несравненно больше интересовался задачами, оставленными Паппом и Диофантом. Как-то раз, избалованный двухлетним успехом, Декарт вышел из дому, не приняв обычных предосторожностей, и был встречен одним из своих старых приятелей. Тот последовал за ним до самой квартиры, и Декарту пришлось вернуться в прежнее свое общество и к прежнему образу жизни. Но рассеянная жизнь уже тяготила молодого человека. Ему шел 21 год. Он решил оставить Францию и увидеть свет. Ему хотелось почитать “в великой книге мира, увидеть дворы и армии, войти в соприкосновение с людьми разных нравов и положений, собрать разные опыты, испытать себя во встречах, какие представит судьба, и всюду поразмыслить над встречающимися предметами”. Потому что, казалось ему, он “может встретить более истины в рассуждениях, какие каждый делает о прямо касающихся его делах, — исход которых немедленно накажет его, если он дурно рассудил, — чем в кабинетных соображениях ученого человека, не разрешающихся действием”. Один из величайших деятелей на мировой арене хотел в эту пору “быть более зрителем, чем актером, в разыгравшихся пред ними комедиях”. Начались годы скитальчества. ГЛАВА II. ГОДЫ СКИТАЛЬЧЕСТВА Волонтер нидерландской армии. Знакомство с Бекманом. Розенкрейцеры. В войсках католической лиги. “Чудесное открытие”. В 1617 году мы находим Декарта в Бреде в мундире волонтера нидерландской армии. Офицерский мундир не соответствует ни его склонностям, ни его взглядам, но он представляет некоторые удобства. Во-первых, он избавляет молодого человека от постоянных напоминаний о карьере со стороны родных; во-вторых, он дает ему возможность постранствовать. К военной службе Декарт относится довольно непочтительно и затрудняется “отвести ей место в ряду заслуживающих уважения занятий (professions honorables), так как любовь к праздности и разврату является, по его мнению, главным мотивом, привлекающим к ней молодых людей”. Слова эти приобретают особенное значение в устах французского дворянина XVII века, свидетельствуя о том, до какой степени расшатаны феодально-рыцарские идеалы. Но расшатаны и другие идеалы недавно минувшей эпохи. В доставшемся от нее религиозном миросозерцании, некогда столь исключительном и цельном, образовалась какая-то прореха. Верный сын католической церкви, каким тщательно выставляет себя Декарт всю жизнь, служит в еретической армии, воюющей под знаменем веротерпимости с католическим королем Испании. Напомним, что с еретиками дружат и сам христианнейший король Людовик XIII, и его советник, кардинал Ришелье. Впоследствии мы найдем Декарта в рядах католической лиги, воюющей в Германии с протестантами, и в рядах королевского войска под стенами последней твердыни гугенотов, Ла-Рошели, но во всех этих случаях религиозные убеждения Декарта ни при чем. Он индифферентен в религиозном отношении. К вере своей он относится почти так же, как к своему дворянскому званию, — как к традиции, доставшейся ему по наследству, отрешиться от которой было бы и не совсем удобно, и небезопасно. Обязательный во Франции дворянский костюм — шляпу с плюмажем и шпагу — он сбрасывает с себя при переезде через границу и насмешливо относится к аристократическим претензиям своих родных, желающих, чтобы он в качестве младшего сына носил по родовому поместью своей матери фамилию дю-Перрон. К мессе он ходит и за границей и старается — впрочем, не совсем успешно — оградить себя от небезопасных обвинений в еретичестве. Но это для него формальность, в которую он не вносит энтузиазма, а, напротив того, влагает много расчета. Один только раз, в критическую минуту жизни, отголоски старых привычек вспыхнут у него, отдаленно напоминая нечто вроде религиозного энтузиазма, но его рвение скоро остынет. Впоследствии Декарт объяснял свое поступление на военную службу “горячностью печени”, которою он будто бы отличался в юности. Но позволительно усомниться в том, чтобы “горячность печени” когда-либо достигала у него особенной высоты. Для начала своей военной карьеры он выбирает страну, которой предстоит еще несколько лет наслаждаться всеми благами перемирия; потом, поступив в армию более активную, он ухитряется сидеть на зимних квартирах в то время, когда его армия дает решительные сражения и осаждает города. Сам же Декарт довольствуется тем, что вступает церемониальным маршем в неприятельские города уже после того, как они взяты штурмом. Воинскими доблестями он не отличается и, как типичный представитель новой эпохи — торгово-промышленной, их не ценит. И теперь он живет в Бреде, пользуясь тем, что идет девятый год перемирия, заключенного на двенадцать лет между Нидерландскими штатами и Испанией. От жалованья он отказывается, чтобы быть свободным от всяких обязанностей, не ходит даже на парады, сидит дома и занимается математикой. Два года затворнической жизни в Сен-Жерменском предместье не прошли даром: перед нами уже не ученик, а мастер своего дела, один из величайших математиков эпохи. Проходя однажды по улицам Бреды, Декарт увидел приклеенную на стене афишу, перед которой столпился народ: какой-то математик вызывал желающих — по обычаю тогдашнего времени — решить одну трудную задачу. Афиша была написана на незнакомом Декарту фламандском языке, и он попросил стоявшего с ним рядом старичка перевести ее на латынь. Старик с улыбкой посмотрел на молодого офицера и согласился исполнить его просьбу, если тот обещает принести ему свое решение. Декарт принял вызов и на следующий же день доставил своему собеседнику решение задачи. Старик был ученый голландский математик, Бекман, ректор Дортрехтской коллегии. Решение, принесенное Декартом, и данное им объяснение убедили Бекмана, что перед ним восходящая звезда, и он пожелал ближе познакомиться с молодым человеком. Они подружились, и впоследствии Декарт по просьбе старого своего друга написал трактат “О музыке”. В описываемую эпоху Декарт желал, как мы видели выше, “быть зрителем в разыгрывающихся перед ним комедиях”. Но интересующая его сцена довольно узка. Дортрехтский собор 1618 года не привлекает его внимания. Между тем этим собором открывается эпоха долгой партийно-религиозной и политической борьбы в Голландии. Самим собором 1618 года Мориц Оранский воспользовался для того, чтобы под предлогом охранения чистоты кальвинистского вероисповедания раздавить ненавистную ему республиканскую партию. Не интересовался, впрочем, собором и Бекман, ректор Дортрехтской коллегии. Вместе с Декартом он в Бреде занимается решением математических задач. Такая уж математика всепоглощающая наука! Пышные церемонии более интересуют Декарта, и в 1619 году он покидает Голландию и отправляется во Франкфурт, где присутствует на коронации вновь избранного императора Фердинанда II. В Германии любопытство его возбуждают рассказы о таинственном обществе “братьев Розового Креста”. Рассказами об этом обществе полна была тогда вся Европа. Появился ряд сочинений, посвященных истории братства и публиковавших его статуты. Как сообщалось в этих книгах, общество розенкрейцеров основано было чудодеем, изучавшим магию на Востоке. Вначале число братьев не превышало четырех, потом было увеличено до восьми. Розенкрейцеры не задавались ни политическими, ни религиозными целями. Единственной их задачей была реформа науки, — главным образом, медицины и химии. Статуты обязывали братьев Розового Креста сохранять безбрачие, лечить всех бесплатно, носить общепринятую одежду и вообще не знакомить с обществом в течение столетия непосвященных, но пополнять братство выдающимися и способными людьми. Декарт страстно желал познакомиться с розенкрейцерами, долго искал их, но безуспешно: как выяснено в новейшее время, братство розенкрейцеров было мифом. Все образованное общество Европы долгое время было жертвой мистификации, по всей вероятности, невольной. Потребность в реформе науки была так сильна, вероятное близкое осуществление ее было так очевидно, что общественное настроение воплотилось в форме мифа, державшегося долгое время. Вскоре после коронации Фердинанда II в Германии образовалась католическая лига для войны с чешскими протестантами, избравшими королем Фридриха V, курфюрста пфальцского, отца будущей ученицы Декарта, принцессы Елизаветы. Декарт вступил в армию вождя лиги, герцога баварского. По-видимому, и на этот раз он руководствовался побочными соображениями, так как немедленно вслед за своим вступлением в армию отправился на зимние квартиры на границе Баварии. Он жил здесь, лишенный общества и книг, и, как рассказывает сам, “не имея никаких развлекающих разговоров и к тому же, не тревожимый, к счастью, никакими заботами и страстями, оставался целый день один в комнате, имея полный досуг предаваться размышлениям”. Здесь произошло событие, составившее эпоху в жизни Декарта. Сам Декарт придавал ему такое значение, что друг его Шаню в надписи на надгробном памятнике счел нужным упомянуть о времени его “зимних стоянок” в Германии. В недавно найденном дневнике Декарта мы находим заметку: “10 ноября 1619 года я начал понимать основания чудесного открытия (coepi intelligere fundamenta inventi mirabilis)”. He подлежит сомнению, что чудесным открытием, о котором говорит здесь Декарт, было открытие основ аналитической геометрии. Как известно, сущность аналитической геометрии состоит в приложении алгебры к геометрии и обратно — геометрии к алгебре. Всякая кривая может быть выражена уравнением между двумя переменными величинами, и обратно — всякое уравнение с двумя переменными может быть выражено кривой (при трех переменных величинах место плоских кривых занимают поверхности и т. д.). Это открытие имело громадное значение не только для математики, в истории которой оно составило эпоху, но и для естественных наук, и вообще для все расширяющегося круга знаний, имеющих дело с точными величинами — числом, мерой и весом. Всякое явление, стоящее в точной зависимости от двух других величин (являющееся “функцией” этих величин), может быть изображено в виде кривой. Свойства последней могут быть изучены алгебраическим путем, и в полученных алгебраических формулах будут содержаться законы изучаемого явления. Этот великий метод не использован еще в достаточной мере в громадной группе наук — например, в науках общественных, по отношению к которым применение его представляется вполне возможным, а для будущего даже вероятным. Статистические кривые пока еще служат только для наглядности изображения полученных данных, но можно предвидеть время, когда приложение к ним математических операций произведет в общественных науках такой же переворот, какой оно произвело в физике и астрономии. Пока этому приложению мешают, с одной стороны, недостаток точных данных, с другой — недостаточная еще выработка метода, открытого Декартом, недостаточная для приложения его к функциям многих переменных величин, какими представляются явления общественные. Изобретатель нового метода ясно сознавал все его громадное значение и общность. Он был так потрясен своим открытием, перед его умственным взором открылись такие громадные перспективы, так близка казалась ему к осуществлению его давнишняя мечта об утверждении всех наук на прочном математическом основании, что он пришел в состояние крайнего возбуждения. Заснув в этот день, он видел подряд три сна, содержание которых передает Балье на основании бывшей у него в руках записи самого Декарта. Давно, по-видимому, мучившие молодого человека мысли о его будущем, о его призвании, отчасти нашли себе выражение в этих снах. Добродушный Балье опасается даже, что читатель может приписать возбуждение Декарта не сделанному им открытию, а более низменному источнику, “тем более, что 10 ноября — канун дня св. Мартина, когда в той местности, где был г-н Декарт, как и во Франции, в обычае предаваться кутежу; и можно было бы подумать, что он выпил вечером, прежде чем лечь спать. Но г-н Декарт заверяет, что провел вечер и весь день в полной трезвости, да и в продолжение целых трех месяцев он не пил вина”. Опубликованный недавно дневник содержит и другие любопытные данные, относящиеся к этому критическому моменту в жизни Декарта. Преисполненный энтузиазма, он записывает обет “перед концом ноября” совершить паломничество в Лоретто, чтобы, как наивно выражается Балье, “заинтересовать в своем предприятии лореттскую Богоматерь”. Энтузиазм Декарта, впрочем, вскоре остыл, и он отправился в Лоретто уже много лет спустя во время путешествия в Италию, предпринятого по иным соображениям и мотивам. В то же время Декарт начинает сознавать, что ему не придется оставаться зрителем на мировой сцене, хотя его и смущает несколько предстоящее выступление перед публикой. “Наука, — пишет он в дневнике, — похожа на женщину: у нее есть свой стыд. Пока она при муже, ее уважают; становится публичной — подвергается презрению”. Тем не менее, неизбежность близкого появления на сцене не подлежит для него сомнению, и Декарт предполагает только принять известные меры предосторожности: “Подобно актеру, надевающему маску, чтобы не видели краску на его лбу, я, выходя на сцену мира, где был доселе только зрителем, появляюсь замаскированным”. Несколько далее мы находим и самую маску: Декарт придумал для себя псевдоним, а для своего сочинения заглавие, в котором бросает вызов сердящим его своей таинственностью розенкрейцерам. Заглавие придумано в духе века — длинное и мудреное: Сокровище математики Полибия Космополита, в котором указываются истинные средства разрешать все трудности сей науки, и доказывается, что ум человеческий не может идти далее в разрешении ее задач. Оно назначено, дабы будить леность одних и посрамить дерзость других, обещающих новые чудеса во всех науках, а также дабы уменьшить утомление и труд запутавшихся в Гордиевых узлах математики и без пользы расходующих силы своего ума. Сочинение предлагается ученым всего мира и в особенности знаменитым братьям Розового Креста в Германии. Окончить трактат Декарт предполагает к Пасхе и издать его в сентябре 1620 года. По-видимому, дело ограничилось, однако, составлением одного заглавия. Балье, имевший в своем распоряжении неизданные бумаги Декарта, нашел между ними одну только рукопись, относящуюся к описываемой эпохе и озаглавленную Олимпики. Но Балье говорит, что в ней так мало связности и системы, что вряд ли Декарт мог когда-либо серьезно думать о выпуске ее в свет. Декарт сам, по-видимому, пришел к убеждению, что с одной идеей, хотя бы великой и гениальной, произвести реформу науки нельзя, и в автобиографических воспоминаниях “Рассуждения о методе” пишет: “И так как это было дело великой важности, в коем надо было опасаться всякой поспешности и предубеждения, то я никак не должен был брать на себя довести его до конца прежде, чем достигну возраста более зрелого, чем 23 года, какие имел тогда, и прежде, чем употреблю много времени на подготовительную работу, искореняя из ума моего все недоброкачественные мнения, до того приобретенные, собирая запас опытов, который послужил бы материалом для моих размышлений, и упражняясь постоянно в принятом методе, дабы укрепляться в нем более и более”. Метод этот, как категорически заявляет тут же Декарт, — математический. “Но, — говорит он, — я чувствовал, прилагая его, что ум мой мало-помалу привыкает представлять предметы отчетливо и раздельно и что я могу надеяться приложить его к другим наукам, кроме алгебры, так как не подчинял его условиям какого-либо частного круга знаний”. Что касается геометрии и алгебры, “...точное соблюдение немногих принятых мною правил, — говорит Декарт, — доставило мне такую легкость в разборе многих вопросов, которыми занимаются эти две науки, что в два-три месяца, которые я употребил на их исследование, начиная с простейших и наиболее общих и пользуясь каждой находимой истиной, чтобы отыскивать новые, — я не только разрешил многие вопросы, казавшиеся мне прежде очень трудными, но пришел к тому, что в конце мог определять относительно даже незнакомых мне задач, какими средствами и насколько они могут быть решены. И притом не покажусь вам, быть может, очень тщеславным, если вы примете во внимание, что истина касательно каждой вещи только одна, и кто нашел ее, знает все, что о ней можно знать. Так ребенок, наученный арифметике, сделав правильно сложение, может быть уверен, что нашел касательно рассматриваемой суммы все, что ум человеческий может найти. И, во-вторых, что метод, научающий следовать истинному порядку и перечислять в точности все условия того, что ищется, обладает тем, что дает достоверность правилам арифметики”. Но для носившейся перед Декартом в его мечтах и принявшей теперь определенные контуры обширной научной реформы он чувствовал себя недостаточно созревшим. Контуры нужно было наполнить содержанием, предстояло еще многое увидеть и изучить. ГЛАВА III. “НЕКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУКА, СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИСТИН ИЗ КАКИХ УГОДНО ПРЕДМЕТОВ”. Дальнейшие скитания. Галилей и Декарт. Неудачное сватовство. “Правила о направлении разума”. Сомнения Декарта и их границы. Правила практической нравственности. Возвращение в Париж. Вечер у папского нунция. Скитания продолжались. В 1620 году Декарт посещает венский двор и осенью догоняет свою армию, успевшую между тем дать решительное сражение и войти в Прагу. В чешской столице Декарта интересует знаменитая коллекция астрономических инструментов Тихо Браге, которую император Рудольф оберегал с такой скупостью, что не давал ею пользоваться даже великому Кеплеру. Но в период пребывания Декарта в Праге их уже не существовало: они были разбиты и уничтожены во время междоусобиц, терзавших Чехию. Зиму 1620 года Декарт проводит на квартирах в южной Чехии, а весной 1621 года отправляется в Венгрию с армией графа Букоя, выступившей против Бетлена Габора, союзника чешских протестантов. Война окончилась неудачей, граф Букой был убит, и Декарт решил бросить военную службу. “Он говорил впоследствии, — замечает Балье, — о годах своей военной службы с холодностью и равнодушием, из которых всем было ясно, что на проделанные им кампании он смотрел как на простые путешествия, а на офицерский мундир как на паспорт, дававший ему доступ в интересные места”. Из Венгрии он отправился в Силезию, присутствовал на собрании государственных чинов в Бреславле, затем через пограничные местности Польши проехал в Померанию, посетил берега Балтийского моря и через Штеттин отправился в Бранденбург и Голштинию. Отсюда он в ноябре вернулся в Голландию. Последняя поездка едва не стоила Декарту жизни. Ввиду предстоявшего ему короткого переезда морем он нанял для себя и своего слуги отдельное судно. Матросы заподозрили в Декарте богатого купца и, полагая, что он не знает фризского наречия, спокойно совещались в его присутствии о том, как его убить и ограбить. Положение было отчаянное. Декарт вынул шпагу и громовым голосом объявил, что проколет первого, кто осмелится к нему подойти. Мегеффи скептически относится к сообщению Балье, сделанному на основании рассказов самого Декарта, тем более, что во время пребывания своего в Бреде Декарт не мог познакомиться с фризским наречием. С психологической точки зрения в рассказе Балье ничего невероятного нет, даже если принять во внимание всю несомненную робость Декарта. Робкие люди в положениях, кажущихся им безвыходными, не прочь бряцанием оружия обратить в бегство действительных или воображаемых врагов. В истории полемики Декарта мы не раз будем встречаться с аналогичным приемом. В Голландии Декарт провел несколько месяцев. Здесь его жажда “видеть дворы” могла быть вполне удовлетворена: в Гааге было тогда целых три двора — двор Генеральных штатов, состоявший, выражаясь современным языком, из парламентских деятелей, военный двор штатгальтера и двор злополучного чешского “короля на час”, курфюрста пфальцского, Фридриха V. Дочь курфюрста, будущая ученица Декарта, принцесса Елизавета, была тогда еще маленькой девочкой. Из Голландии Декарт отправился в Брюссель, где посетил двор инфанты Изабеллы, и в марте 1622 года вернулся, наконец, в Ренн к своему отцу, которого не видел девять лет. Здесь, в маленьком провинциальном городе, Декарт провел около, года, не решаясь отправиться в Париж, где тогда свирепствовала чума, и занялся устройством своих имущественных дел. Отец выделил ему приходившуюся на его долю часть материнского наследства, и Декарт стал подумывать о продаже своих земель. В 1623 году он отправился в Париж. Между тем рассказы о розенкрейцерах достигли Франции, и ко времени прибытия Декарта в Париж распространился слух, что братство Розового Креста командировало шесть братьев во Францию. Французы и тогда отличались смешливостью и, предоставив немцам сочинять о розенкрейцерах ученые трактаты, сами приветствовали их карикатурными афишами, а на Pont-neuf распевались уже комические шансонетки об Invisibles. Приезд Декарта совпал с апогеем смешливого настроения парижан, остряки объявили его членом возбуждавшего всеобщую веселость братства, и Декарт очутился в чувствительном для него, при его самолюбии, комическом положении, из которого выпутался не без труда. Как рассказывает Балье, “он стал показываться всюду в обществе, чтобы наглядно доказать, что не принадлежит к числу invisibles”. Пребывание в Париже при этих условиях, во всяком случае, было не особенно приятным, и Декарт составил план нового путешествия. Кстати, родные опять стали напоминать ему, что при его способностях пора бы давно уже составить себе общественное положение, и Декарт, пользуясь тем, что один из его родственников был генерал-провиантмейстером альпийской армии, объявил, что поедет к нему, чтобы похлопотать о месте интенданта. Он поехал через Швейцарию, изучая своеобразные явления альпийской природы. Он наблюдал здесь снежные обвалы, в сопровождающих последние звуковых явлениях нашел аналогию с громом и пришел к заключению, что гром вызывается скатыванием сгущенных в виде туч водяных паров из верхних слоев атмосферы в нижние. В Модане он измерил высоту Мон-Сениса и через Тироль отправился в Венецию, где присутствовал на венчании дожа с Адриатикой. Здесь он вспомнил о данном им несколько лет тому назад обете и отправился в Лоретто. “Мы не знаем, как он совершил это паломничество, — замечает Балье,— но не будем сомневаться, что обстоятельства этого путешествия были в высшей степени назидательны, если вспомним, что, давая свой обет, он решил сделать все нужное для обеспечения себе покровительства Пресвятой Девы”. В 1625 году Декарт присутствовал в Риме на юбилее, который папы для увеличения своих доходов стали праздновать каждые двадцать пять лет, и видел там большое стечение паломников из разных европейских стран. Через Тоскану он вернулся во Францию. Во Флоренции жил Галилей, находившийся тогда на вершине своей славы; государи и князья церкви при проезде через Флоренцию считали своим долгом навестить великого ученого. Но Декарт, по-видимому уже тогда ревниво относившийся к славе Галилея, не счел нужным познакомиться с ним. “Галилея, — писал он много лет спустя Мерсенну, — я никогда не видел и не мог поэтому ничего заимствовать от него. В его сочинениях я не нахожу ничего, что внушало бы мне зависть, и почти ничего такого, что я готов был бы признать своим. Лучше других его сочинение о музыке (здесь Декарт смешивает Галилео Галилея с его отцом Винченцо, автором трактата о музыке). Но люди, знающие меня, скорее допустят, что он заимствовал от меня, чем обратное”. Знаменитые “Разговоры о системах мира” Декарт “...имел в руках только тридцать часов, тем не менее перелистал всю книгу” и находит, что Галилей “...довольно хорошо рассуждает о движении... Там и сям я не пропустил заметить некоторые из моих мыслей, между прочим две, о которых, кажется, писал вам”. Снисходительный отзыв о работах Галилея по вопросу о движении производит тем более комическое впечатление, что спустя шесть лет после того, как Галилеем были опубликованы законы движения в той формулировке, в какой они излагаются и сейчас, Декарт дал в своих “Началах” поразительно ошибочные законы движения. Таково, впрочем, общее отношение самолюбивого и ревнивого французского мыслителя к чужим трудам и заслугам. Летом 1625 года Декарт вернулся в свое имение в Пуату “не интендантом” — к крайнему разочарованию своих родных. Родные не теряли, однако, надежды, что им удастся образумить молодого человека, и они сделали, по-видимому, попытку женить его. Хорошенькая барышня, которую прочили ему в жены, завела раз с Декартом небезопасный разговор о “различных видах красоты”. Но Декарт, вместо ожидавшегося и вполне заслуженного комплимента, осторожно заметил, что “из всех известных ему видов красоты на него наиболее сильное впечатление произвела красота Истины”. Сватовство, разумеется, окончилось неудачей; девица, однако, оказалась настолько умной, что не обиделась предпочтением, оказанным ее прекрасной сопернице, и впоследствии, обретя в лице туренского помещика более подходящую пристань, чем какой мог бы быть бездомный скиталец-философ, охотно рассказывала об этом эпизоде. В июле того же года, продав свое имение, Декарт отправился в Париж. Документов, уясняющих внутреннюю жизнь Декарта за долгий период его скитальчества, у нас два: вторая и третья части “Рассуждения о методе” и написанные в эту пору “Правила о направлении разума”. Более всего интересует Декарта в эту пору его жизни вопрос о методе, успехи, достигнутые им в алгебре и геометрии благодаря применению правильного метода, придают в его глазах особенную важность этому вопросу. “Люди, — говорит он в Правилах, — одержимы столь слепым любопытством, что часто направляют ум на неизвестные пути без определенной надежды, но только чтобы посмотреть, не находится ли там случайно то, чего они ищут, — словно человек, который был бы снедаем столь безумным желанием найти клад, что рыскал бы по всем дорогам, ища, не оставил ли такого какой-либо путешественник. Не отрицаю, что среди заблуждений иногда выходила удача встретить какую-нибудь истину. Но зато не могу почесть их более искусными, а назову их только более счастливыми. Лучше вовсе не искать истины относительно какой-либо вещи, чем искать без метода. Изучение без порядка и разные темные размышления только мутят естественный свет и погружают во мрак, а кто привыкнет ходить в темноте, у того так слабеет зрение, что он не может выносить дневного света. Опыт подтверждает это. Как часто видим, что люди не учившиеся судят обстоятельнее и яснее о представляющемся, чем постоянно ходившие в школу. Под методом я разумею определенные и легко исполнимые правила, строгое соблюдение которых не дозволяет принимать за истину то, что ложно, и дает возможность уму, не истощаясь в бесполезных усилиях, доходить до истинного познания вещей, насколько только его можно достигнуть”. В необходимости методического исследования, в том, что предаваться занятию науками без метода скорее вредно, чем полезно, Декарт так убежден, что открывает существование “некоторого анализа” у древних геометров и полагает, что они “с достойной осуждения хитростью” скрыли от нас свой метод. “Подобно тому, как многие ремесленники скрывают секреты своего изобретения, так и они, боясь, быть может, обнаружить простоту и ясность метода и обесценить его общедоступностью, предпочли — дабы заставить удивляться себе — представить нам, как произведение своего искусства, некоторые бесплодные, но и великие тонкости, выведенные ими, вместо того, чтобы сообщить само искусство”. Но Декарт не придавал бы большой цены открытым им правилам, если бы они годились только для решения пустых задач, какими любят занимать свой досуг счетчики и геометры, если бы благодаря своим правилам он достиг “только большей тонкости в занятии этими пустяками”. Хотя он часто говорит “о фигурах и числах, ибо нет науки, к которой можно было бы обратиться за примерами столь ясными и верными, как представляемые математикой”, но его “менее всего интересует обыкновенная математика”. Он излагает “некоторую иную науку, для которой обыкновенная математика есть скорее оболочка, нежели часть. Эта наука должна содержать в себе первые зачатки нашего разумения и, кроме того, служить для извлечения из любого предмета истин, в нем заключающихся. Сказать прямее, я уверен, что она предпочтительнее всех других наук, ибо есть их источник”. Он предполагает “в этом трактате (Правилах) в такой мере разыскать пути, открытые к исканию истины, чтобы человек, глубоко проникшийся этим методом — какова бы ни была посредственность его ума, — увидел, что всякая область знания для него открыта так же, как для других, и что если он не знает чего-либо, то зависит это не от недостатка ума или способности. Всякий раз, как он приложит ум к познанию какой-либо вещи, он или вполне достигнет своей цели, или откроет, что удача зависит от опыта, произвести который не в его власти, и не обвинит своего разума, хотя и вынужден будет остановиться, или наконец докажет, что искомая вещь превосходит все усилия человеческого ума”. После этого предисловия читатель, вероятно, сильно заинтересован столь многообещающими Правилами, и мы считаем себя обязанными удовлетворить его любопытство. Всех “правил” двадцать одно, но в более зрелом Рассуждении о методе они сведены к следующим четырем: I. Принимать за истинное лишь то, что с очевидностью познается мною таковым, то есть избегать поспешности и предубеждения и принимать лишь то, что представляется так ясно и раздельно моему уму, что никаким образом не может быть подвергнуто сомнению. II. Дробить каждую из трудностей, какие буду разбирать, на столько частей, сколько только можно, дабы их лучше решить. III. Всякие мысли по порядку начинать с предметов простейших и легчайших и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания более сложных, допуская, что есть порядок даже между такими, которые, естественно, не предшествуют одни другим. IV. Делать всюду перечни столь полные и обзоры столь общие, чтобы быть уверенным, что ничего не упущено. Читатель разочарован? Но не имел ли он основания заранее скептически отнестись к обещаниям Декарта? Со времени составления Правил прошло два с половиной века, а сколько читатель знает патентованных ученых, так сказать, по долгу службы обязанных делать открытия и однако же их не делающих?.. Неужели же это происходит оттого, что они не знают декартова метода? Или же, может быть, для самого пользования этим методом требуется ум не “посредственный”? Ведь в умении отличать в вопросе “простейшие” (основные) стороны от “более удаленных”, в умении отличать очевидное от вероятного и определять границы, за которыми начинается область “не точного” и не “несомненного”, и состоит отличие ума незаурядного от посредственного. Кроме того, правильное представление о методе еще и по другой причине не обеспечивает правильного приложения этого метода. Последнее в несравненно большей степени, чем методологическими изысканиями, определяется медленно изменяющимися привычками мысли и состоянием материала, над которым приходится оперировать. Сам Декарт — ум далеко не заурядный — не всегда соблюдал им же составленные правила. Уже в приведенных правилах содержится требование скептицизма, вполне определенно формулируемое Декартом и в Правилах, и в Рассуждении о методе, и в позднейших его произведениях. “Нет вопроса более важного, — говорит он в Правилах, — как вопрос, что такое человеческое знание. Вот что раз в жизни должен разобрать каждый сколько-нибудь любящий истину”. Необходимо, говорит он в Рассуждении о методе, “раз в жизни удалить из своего убеждения все мнения, до того приобретенные, с целью заменить их потом лучшими или теми же, если окажутся на уровне разума”. Драматическому описанию своих сомнений Декарт посвятил первые главы Размышлений и Начал философии. Душевная борьба, воспроизведенная на этих страницах, относится к описываемому периоду его жизни. Возникает "вопрос, насколько она была глубока, насколько захватила личность Декарта. “Сомнения”, несмотря на драматизм и приподнятый тон изложения, оставляют нас совершенно холодными. Ломки миросозерцания с ее потрясающими всю личность эффектами мы не видим, да ее и не могло быть. Старого миросозерцания не существовало, школьное миросозерцание не удовлетворяло уже шестнадцатилетнего юношу и никогда не было миросозерцанием Декарта. Ему не пришлось подвергаться мучительной операции выдергивания глубоко сидящих корней, переживать моменты сжигания старых идолов. Кроме того, перед нами несомненно не скептик, а человек, заранее убежденный в несомненности опытных и математических истин и верующий в истины другого порядка. Его “сомнения” вытекают всего только из потребности систематического ума обосновать логическим путем несомненные для него истины. Читатель все время чувствует, что этот “ищущий” ум удовлетворится легко и скоро — лишь только подыщет подходящий силлогизм. Несравненно важнее определить границы сомнений Декарта: они будут в то же время границами его логической последовательности. Хотя Декарт и говорил, что необходимо “раз в жизни удалить из своего убеждения все мнения, до того приобретенные”, но эта задача неосуществима, и сам Декарт ее не исполнил. Границы наших сомнений вне нашей власти; мы в этом отношении — дети нашей исторической эпохи, рабы определенного запаса фактических знаний. Видоизменение этих границ, — возникновение сомнений в казавшихся прежде несомненными “истинах”, установка новых несомненных истин, — и в истории человеческой мысли и в истории отдельного человека совершается не путем самоуглубления и самосозерцания, которое в лучшем случае может вскрыть только имеющийся уже, наличный душевный материал, а благодаря накоплению новых фактических знаний и установке новых ассоциативных путей. Пока человечество не стало накоплять ряда фактических данных, доказывавших, что земля кругла, никакое самоуглубление не могло привести к сомнению в очевидном для всех факте плоского вида Земли. Пока не явился целый ряд данных, делавших все более и более запутанным" учение о движении небесных светил, не могло возникать сомнения в том, что Солнце движется по небесному своду, спускаясь со своим закатом в океан. Так было и с Декартом: он приступает к своим “сомнениям” с известным запасом научных и религиозных убеждений и выносит их, конечно, из своих сомнений целыми и невредимыми. Как ни интересно было бы дать полный перечень этих убеждений, определяющих пределы логической последовательности Декарта, ни размеры, ни задачи настоящего очерка не позволяют нам даже ставить этот вопрос в полном его объеме. Отчасти нам придется касаться его в дальнейшем изложении, теперь же сделаем только небольшое извлечение из вышеупомянутого уже дневника Декарта. В этом дневнике мы находим следующую интересную заметку: “Бог свершил три чуда: мир из ничего, свободную волю человека и Богочеловека”. Если сюда прибавить бессмертие человеческой души, то мы и получим часть тех границ, которых не перейдет этот сильный и оригинальный ум. Напротив того, и сила и оригинальность его в значительной мере будут употреблены на то, чтобы втиснуть новое миросозерцание в заранее предначертанные рамки. Еще уже границы логической последовательности Декарта в практической сфере. Как это ни странно на первый взгляд, к практической сфере Декарт относит и религию. Считаем нужным предупредить возможное недоразумение у читателя. Декарт — не религиозный энтузиаст, однако он верует в религиозные истины, из которых некоторые приведены нами выше. Но этими истинами не исчерпывается содержание католицизма. Несмотря на все старания Декарта оградить себя от возможных подозрений в еретичестве, несмотря на все старания Балье выставить его добрым католиком, факт этот подвержен серьезному сомнению. Близкое знакомство с жизнью Декарта и с его миросозерцанием приводит, напротив, к убеждению, что принадлежность его к католицизму является для него одним из фактов его практического житейского обихода, с которым он принужден считаться совершенно независимо от личных своих научных и философских взглядов. Вполне естественно поэтому, если он говорит о религии в составленных им для себя правилах житейской мудрости. Правил этих три: “Во-первых, повиноваться законам и обычаям страны, сохраняя религию, в которой по благости Божьей воспитан, и следуя во всем остальном мнениям наиболее умеренным, удаленным от всяких крайностей и общепринятым наиболее благоразумными людьми в кругу, где буду жить. А так как благоразумные могут быть также среди персов и китайцев, как и между нами, то мне казалось полезнейшим направлять себя согласно с теми, среди кого буду жить. В особенности в разряд крайностей я поставлял все обещания, более или менее ограничивающие свободу. Так как я не видел ничего в мире, что оставалось бы неизменным, и так как я лично стремился усовершенствовать более и более мои суждения, а никак не делать их худшими, то я полагал, что сильно погрешил бы против смысла, если бы, одобряя какую-либо вещь в данную минуту, я обязывал бы себя считать ее хорошею и тогда, когда она перестала быть таковой или я перестал ее таковой считать. Во-вторых, — быть твердым и решительным в действиях и, приняв какое-нибудь мнение, хотя бы сомнительное, но на которое я раз решился, — следовать ему, как если бы оно было вполне истинное. Так заблудившийся в лесу путешественник не должен блуждать из стороны в сторону, а, выбрав путь, какой кажется вероятнейшим, следовать неуклонно ему, не сходя с него без поводов разве особенной важности. Если он и не придет к цели, то все-таки выйдет куда-нибудь, где ему, вероятно, будет лучше, чем среди леса. Так как житейские дела часто не терпят отсрочки, то несомненно, что мы должны довольствоваться вероятнейшим мнением, если не в состоянии отличить верного. Третье правило — стремиться всегда побеждать скорее себя, чем судьбу, изменяя свои желания, а не порядок мира, и вообще привыкнуть к мысли, что вполне в нашей власти только наши мысли, так что когда мы сделали со своей стороны все возможное относительно внешних нам вещей, тогда то, в чем не успели, значит есть относительно нас нечто, абсолютно невозможное”. Декарт не одобряет “беспокойного и волнующегося нрава тех, которые, ни по рождению, ни по богатству не будучи призваны к ведению общественных дел, имеют всегда в мысли какое-нибудь преобразование... Великие государственные здания слишком нелегко поднять, если они повержены, трудно даже удержать от падения, если они поколеблены, и падение их сокрушительное... Далее, что касается их несовершенств, когда таковые бывают — а что бывают во многих, о том нетрудно заключить из их разнообразия — то практика без сомнения сильно смягчила их и позволила нечувствительно устранить и исправить многое, чего заранее не могло бы рассчитать никакое благоразумие. К тому же почти всегда несовершенства их легче переносятся, чем перемены. Так, большие дороги, извивающиеся между гор, мало-помалу становятся столь наезженными и удобными от частого посещения, что много лучше следовать по ним, чем предпринимать более прямой путь, карабкаясь по скалам и спускаясь в пропасти”. Эти правила нравственности, проникнутые духом заботящегося только о личном покое оппортунизма, смущают даже благоговеющего перед Декартом и часто наивного Балье. Последний старается оправдать своего героя тем, что правила носят временный характер и имели целью дать Декарту руководящую нить в ту пору, когда он не выяснил себе еще с определенностью вопросов практической жизни; в душе же Декарт разделял более высокую мораль св. Фомы Аквината. Этими “временными” правилами Декарт, однако, руководствовался всю свою жизнь. Причины следует искать в условиях эпохи и личных особенностях философа. После бурь реформационного периода наступила реакция с обычными своими спутниками: придавленностью и приниженностью, общественным индифферентизмом, ханжеством и лицемерием. Декарт — человек робкий и осторожный, не желающий ссориться ни с властями, ни с духовенством. Достигнуть этого было ему тем легче, что религиозные и общественные вопросы его мало интересуют. И в людях его поколения (мы говорим о Европе) эти вопросы не вызывают прежней страстности и одушевления, а самого Декарта математические задачи интересуют несравненно больше, чем Генеральные штаты и вопрос о происхождении папской власти. Он не противник существующего порядка, но и плохой его союзник, союзник индифферентный. Живи он в Персии или Китае, он был бы последователем Конфуция или шиитского толка, держался бы общественных взглядов китайцев и персов и в своем богатом запасе диалектики отыскал бы себе оправдание. И, однако же, — такова ирония истории — Декарт безусловно должен быть причислен к числу тех, “которые, не будучи ни по рождению, ни по богатству призваны к ведению общественных дел”, сокрушили старый порядок. Профессор Любимов (прекрасным переводом которого мы здесь неоднократно пользуемся), сочувственно относясь к приведенным правилам нравственности, указывает в то же время, что непрерывающаяся преемственность связывает идеи Декарта с идеями революционной эпохи. Явление это вполне понятно. Как бы ни открещивался Декарт от “беспокойных” сторонников реформ, его философия была одним из симптомов того беспокойного исторического течения, которое, пройдя через несколько фаз, вымело из Франции остатки феодально-клерикального строя. Научное движение XVII века дало материалы (немаловажную долю их внес сам Декарт), из которых люди более смелые и отзывчивые к жгучим вопросам сковали оружие против тех элементов старого строя, с которыми считал возможным мириться Декарт под тем предлогом, что наезженные дороги лучше прямых. В 1625 году Декарт, как мы уже говорили, вернулся в Париж много видевшим, объездившим почти всю тогдашнюю культурную Европу человеком. Вряд ли кто из научных деятелей его поколения совершил столько путешествий — впоследствии Декарт посетил еще Данию и, по-видимому, Англию, а последние месяцы своей жизни он провел в Швеции. Парижские друзья с радостью встретили его; он возобновил связи с Мерсенном и Мидоржем, познакомился с другими учеными, между прочим, со знаменитым геометром Дезаргом и с будущим комментатором своей “Геометрии” Боном. В этот свой приезд Декарт прожил в Париже три с половиной года и занимался математикой и физикой, а также наукой о человеке — физиологией. В физике он больше всего интересуется оптикой, знакомится с искусным шлифовальщиком стекол Феррье и, с обычной своей способностью увлекаться, уверяет Феррье, что, если тот будет следовать его указаниям, то в его стекла можно будет “видеть, есть ли животные на Луне”. Большой круг знакомых скоро стал тяготить Декарта, и, как в первый свой приезд в Париж, он тайком от большинства друзей поселился в укромном уголке и, как тогда, спустя долгое время был случайно разыскан настойчивым родственником. Последний явился к нему на квартиру в одиннадцать часов утра и, наблюдая в замочную скважину, увидел, что Декарт еще лежит в постели, время от времени приподнимается, пишет и потом опять ложится “подумать”. Неожиданное появление родственника не особенно обрадовало Декарта, и с досады он отправился к королевским войскам, осаждавшим Ла-Рошель, посмотреть вызывавшие тогда общий интерес в инженерном мире осадные работы. Декарту шел уже 33-й год, прошло уже около девяти лет со времени “чудесного открытия”, возбудившего в его душе столько ожиданий,— и однако, ничего еще не было сделано. Правда, он был искусный математик, успешно решавший трудные задачи, но разве об этом он мечтал? уверенность в себе, граничащая у Декарта с самообожанием, не исключает у него, по-видимому, в эту пору его жизни припадков сомнения в своих силах и в своем призвании. Только этим и можно объяснить тот факт, что напоминаний родных о служебной карьере Декарт никогда решительно не отклоняет, всегда уверяет их в своем согласии и старается только устроиться так, чтобы задуманные ими планы расстроились и чтобы его забыли. Он не в состоянии еще противопоставить этим напоминаниям сколько-нибудь определенный жизненный план, опасается разочарования в своих силах, не уверен в том, что мечты его сбудутся. Случай окончательно выясняет Декарту его призвание и укрепляет в нем решимость следовать по избранному пути. Вскоре после своего возвращения из Ла-Рошели Декарт был приглашен на вечер к папскому нунцию, у которого собрался цвет светского и ученого Парижа. Новые философские системы росли тогда, как грибы после дождя, и были в моде. На вечере у нунция некто Шанду, авантюрист, алхимик и врач, казненный впоследствии за фабрикацию фальшивой монеты, излагал свою “новую философию”. Как водится, изложению оригинальной системы предшествовала критика старой, схоластической философии. Старое до такой степени никого не удовлетворяло, так сильна была потребность в новом, что речь Шанду, не оставившего по себе никаких следов в истории, вызвала общий восторг и одобрение на этом собрании умнейших и ученейших людей Парижа, состоявшем к тому же в значительной части из консервативных элементов. Один только Декарт молчал. Кардинал Берюль, уже раньше знавший его и внимательно следивший за ним весь вечер, попросил его высказать свое мнение. Декарт, чувствовавший себя вообще неловко в больших собраниях, долго отказывался, но наконец принужден был высказаться. Он заявил, что вполне согласен с той частью речи Шанду, которая посвящена критике схоластической философии; но предлагаемая Шанду новая философия столь же мало его удовлетворяет, как и схоластика. Подобно последней, она не стоит на прочном основании, опирается на предположениях вероятных, но не несомненных. Между тем именно в этом обстоятельстве лежит причина неудовлетворительности схоластической философии. Чтобы доказать свою мысль о невозможности строить что-либо на положениях только вероятных, Декарт попросил присутствующих указать ему какую-либо несомненную истину и тут же двенадцатью аргументами — один вероятнее другого — доказал ее ошибочность, а затем попросил указать ему несомненную ложь и такими же аргументами доказал ее истину. Отсутствие прочных основ могло, по мнению Декарта, привести только к софистике и к умению говорить о том, чего не знаешь. На присутствующих обширная эрудиция Декарта и его диалектический талант произвели сильное впечатление. Кардинал Берюль попросил его зайти к себе и в беседе наедине высказал Декарту, как высоко он ценит его таланты, и убеждал его посвятить себя делу, для которого он обладает достаточными силами. По-видимому, “философия” Шанду представляла собой естественнонаучную теорию, так как, передавая беседу кардинала с Декартом, Балье упоминает о пользе, “которую новая философия могла бы принести человечеству в области механики и медицины”, успех, неожиданно выпавший на долю Декарта в этом блестящем собрании, и убеждения кардинала заставили его покончить со своими колебаниями. Тою же осенью он оставил Париж, чтобы в уединении в Голландии предаться научной работе. |