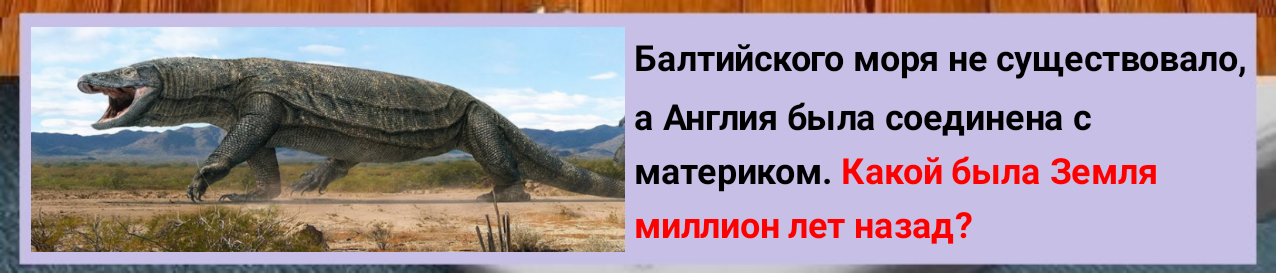|
|
|
Сергей Соловьев.ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ГЛАВА I Детство. Учение. Студенческие годы. ГЛАВА II Заграничное путешествие. Магистерский экзамен. Диссертации на степени магистра и доктора истории. Профессорская деятельность. ГЛАВА III “История России с древнейших времен”. ГЛАВА IV Сочинения по философии истории. ГЛАВА V Образ мыслей. Образ жизни. Характер С. М. Соловьева. ГЛАВА I Детство. Учение. Студенческие годы. 5 мая 1820 года, в одиннадцать часов вечера, накануне Вознесения, в тесной, плохо меблированной квартире священника Московского коммерческого училища Михаила Васильевича Соловьева родился сын Сергей, недоношенный, а потому слабый, хворый, целую неделю не открывавший глаз и не кричавший. Из первых лет жизни Сергей Михайлович впоследствии с особенной любовью вспоминал о своей няньке Марье и даже приписывал ей большое влияние на образование своего характера. Это была невысокая худощавая старушка с очень приятным выразительным лицом, с добродушно-насмешливой улыбкой, очень набожная и притом всегда веселая, несмотря на множество злоключений, постигших ее в жизни. Девочкой ее разлучили с матерью, продали какому-то купцу, жившему в Астраханской губернии, потом ее отпустили на волю, и она поступила в услужение в Москву. Нянька Марья успела побывать три раза в Соловецком монастыре и столько же раз в Киеве. “Рассказы об этих путешествиях,— говорил Сергей Михайлович,— составляли для меня высочайшее наслаждение; если я и родился со склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о своих хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности! Как теперь я помню эти вечера в нашей тесной детской: около большого стола садился я на своем детском стулике, две сестры, которые обе были старше меня, одна тремя, а другая шестью годами, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица”. Рассказы старушки, умевшей и в далеко не забавных приключениях находить забавную сторону, всегда отличались добродушным юмором и смешили ребенка. Занимали его сообщения о дальних странах, о Волге, рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве. Своей няне Соловьев приписывал и религиозно-нравственное влияние. Начнет она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми, мальчик в сильном волнении спрашивает ее: “И ты не испугалась, Марьюшка?” Ответ был всегда один: “А Бог-то, батюшка?” Впоследствии в трудных обстоятельствах жизни Сергей Михайлович нередко вспоминал слова няни: “А Бог-то?” Сестер Сергея Михайловича, которые были значительно старше его по возрасту, отдали в пансион, и мальчик рос один. Одиночество способствовало, конечно, раннему развитию и любви к чтению. Научившись грамоте, он с жадностью набросился на книги и в них находил единственное развлечение. Читал он все без разбору и прежде всего романы, попадавшиеся ему под руку: Радклиф, Нарежного, Загоскина, Вальтера Скотта,— такое чтение возбуждало преждевременно и без того пылкую фантазию мальчика и приносило ему гораздо больше вреда, чем пользы. Однако его склонность к истории сказалась уже в раннем детстве. Среди отцовских книг попалась ему “Всеобщая история” Басалаева и увлекла его; он перечитывал ее много раз и особенно прельщался римской историей, с которой ему вскоре после этого удалось познакомиться подробнее в сочинении аббата Милота. В то же время Серёжа увлекся Карамзиным и до тринадцати лет перечел его не меньше двенадцати раз. С особенной любовью останавливался он на тех страницах, где повествовались славные для России события, и поэтому отдавал предпочтение шестому тому (княжение Иоанна III) и восьмому (первая половина царствования Грозного). Мальчик увлекался настолько, что начинал бурно фантазировать в области истории. Он всем сердцем ненавидел Стефана Батория за его победы над русскими и по целым дням мечтал: “А что если бы сам царь Иван принял начальство над войском и разбил Батория, отнял у него Полоцк и Ливонию”; живо представлялось ему, с каким торжеством царь въезжает в Москву и везет пленного Батория. Не меньше исторических книг маленький мечтатель увлекался путешествиями, читая “Историю о странствиях” и “Всемирного путешествователя”. По обычаю духовенства, Михаил Васильевич Соловьев записал своего восьмилетнего сына Сергея в духовное училище, с правом учиться дома и являться только на экзамены. Он сам учил мальчика Закону Божию и древним языкам, а для обучения другим предметам посылал его в коммерческое училище, где в те времена преподавание не отличалось большим блеском. Отец не имел времени аккуратно заниматься с сыном, а потому по большей части ограничивался тем, что приказывал выучить наизусть такие-то склонения и спряжения из латинской грамматики, и только раз или два в несколько недель успевал проверить познания своего сына. Понятно, что мальчику, обладавшему пылкой фантазией, было очень тяжело механически, почти без всякого руководства заучивать латинские вокабулы, в то время как он постоянно жил в области мечты, вместе с Муцием Сцеволой клал руки на уголья или с Колумбом открывал Америку. Мальчик каждый день держал перед собой латинскую грамматику по нескольку часов, но обыкновенно вкладывал в нее другую книгу, какой-нибудь роман, и результатом было то, что, когда отец начинал спрашивать его, он отвечал плохо и совершенно неудовлетворительно сдавал экзамены в духовном училище. Поездки в Петровский монастырь, где помещалось духовное училище, Сергей Михайлович причислял к самым бедственным событиям в своей отроческой жизни: неопрятный вид учеников, грязные и грубые до зверства учителя возбуждали сильное отвращение в мальчике, привыкшем к домашней жизни. Один из учеников сделал однажды какую-то довольно невинную шалость, к нему подскочил преподаватель, вырвал у него целый клок волос и торжественно положил их на стол. Такие сцены, естественно, вселяли в мальчика страх к духовному образованию, потому что он был немало наслышан о грубости семинарских нравов и вообще не чувствовал ни малейшей склонности к духовному званию. Под влиянием матери, принадлежавшей к светскому сословию, а также из-за неудовлетворительно сданных экзаменов М. В. Соловьев после некоторого колебания решил выписать сына Сергея из духовного звания. Тринадцати лет поступил он в третий класс Первой московской гимназии. Директором был Окулов, добрый и милый человек, очень любезный, славившийся в обществе своим искусством рассказывать анекдоты, и в то же время известный своим мотовством; он держал много пансионеров и не занимался делами, предоставляя их инспектору Белякову. Это был человек неглупый, распорядительный, но желчный и грубый, часто кричавший на учеников и бранившийся... Порядок в младших классах, где было до ста учеников, оставлял желать много лучшего: на передней лавке ученики еще кое-что слушали, на средних разговаривали, на задних спали или играли в карты. Дисциплина установилась только с назначением попечителем Московского округа графа Строганова вместо князя Голицына, когда инспектором стал вместо Белякова учитель математики Погорельский — человек ловкий, деятельный, самолюбивый, желавший угодить попечителю и потому следивший за порядком. Он сменил учителей, не хотевших ничего знать, кроме учебника, или просто “без царя в голове”. Соловьев учился хорошо по всем предметам, кроме математики, к которой чувствовал природную антипатию, усиливавшуюся еще оттого, что в третьем классе был учителем некто Волков, большой педант и человек довольно грубый. Он, например, обращался к мальчику с такими словами: “Дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца: отец твой— хороший человек, а ты — дурак!” Однако летом Соловьев наверстал упущенное, отец взял ему учителя, и осенью он блистательно выдержал экзамен, так что перешел в четвертый класс первым учеником по всем предметам. Первым, кто подметил выдающиеся способности Соловьева, был Попов, преподававший русский язык и словесность, начиная с четвертого класса. Он умел возбудить в учениках охоту к занятиям, прекрасно разбирал классические произведения литературы и ученические сочинения и на этих разборах не только выучивал правильно писать, но и выявлял таланты, у кого они были. На уроках логики и риторики Соловьев, заинтересованный предметом, не мог удержаться, чтобы не высказывать вслух своих мыслей. Попов не сердился на такое “неприличное” поведение, и беседа выходила очень живой и поучительной. Сочинения Соловьева своими достоинствами выделялись среди прочих ученических работ, хотя он часто уклонялся в сторону, не исполняя заданной темы,— вместо описания памятника Минину и Пожарскому предавался историческим воспоминаниям и пренебрегал риторическими формами, считавшимися тогда обязательными. Попов журил ученика за отступления от риторики, но тем не менее во время одной товарищеской беседы с учителем Красильниковым увлекся до того, что сказал ему: “Ведь Соловьев просто гений!” Красильников возразил на это: “Полно, полно, Павел Михайлович! Как это может быть; положим, что Соловьев — мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтобы у нас в гимназии завелся гений?” Хотя не все относились к Соловьеву с таким восторгом, как Попов, но все учителя признавали в нем большие способности и любили его за отличное учение и примерное поведение. Сергей Михайлович всегда с удовольствием вспоминал о времени, проведенном в гимназии; легко, весело ему было с узлом книг отправляться в школу, зная, что там встретит его ласковый прием; приятно было ему чувствовать, что он значит что-то; приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту, остававшемуся всегда за ним. В 1838 году, восемнадцати лет, Соловьев был выпущен из гимназии первым учеником с обязанностью написать для акта рассуждение на тему “О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного”, за которое получил серебряную медаль. На лето Соловьев поселился в качестве учителя в деревне князя Михаила Николаевича Голицына, сына разорившегося аристократа, малообразованного и развратного помещика. Воспитанием детей занималась княгиня, отличавшаяся нетерпимым характером,— женщина ограниченная, капризная, сварливая. Молодому Соловьеву поручили обучение четырех детей и между прочими Дмитрия, мальчика до безобразия толстого, вялого физически и умственно, в тринадцать лет с трудом читавшего по-русски. В доме Голицыных не говорили иначе как по-французски, с презрением относились ко всему русскому, Соловьева называли Mr. le Russe, и юноша вынужден был доказывать, что он гордится этим прозвищем, что имя русского драгоценно для него, что ему лестно быть единственным русским в целом доме. Аристократическая семья произвела тяжкое впечатление на юношу, воспитанного в совсем другой среде, и осенью он отказался жить в доме Голицыных; но это лето оставило некоторый след в его жизни,— одна крайность вызывает другую, и Соловьев на время ударился в славянофильство или, лучше сказать, русофильство. Осенью Соловьев поступил в университет на первое отделение философского факультета (теперешний историко-филологический). Ректором был в то время М. Т. Каченовский, известный историк-скептик, человек очень честный и всеми уважаемый. Читал он уже не русскую историю, как прежде, а славянские наречия, и на этом поприще как по старости лет (ему было 64 года), так и по недостаточному знакомству с предметом не мог оказать большой пользы студентам. Деканом факультета состоял И. И. Давыдов, ученый карьерист, смотревший на науку как на средство выслужиться, получать чины и ордена. Получив Станислава первой степени, он откровенно объявил, что высшие ордена производят удивительное впечатление: он чувствует себя нравственно лучше, выше с тех пор, как награжден звездой. Академик Никитенко говорит о Давыдове в своем дневнике: “Вот человек, который из своего ума, таланта и обширных сведений сделал себе орудие мелкого своекорыстия. Стоило для этого столько трудиться, чтобы в заключение осквернить дары, предназначенные для лучшего употребления! Но такова безнравственность эпохи. Ум и дарование не возвышаются до веры в практическое добро. Как доказательство своей силы они представляют одни итоги нахватанных ими чинов, орденов и денег. Они не веруют ни в какое другое право на уважение общества. Это они называют искусством жить и презирают тех, которым недостает охоты или уменья идти их путем и употреблять свой ум и силы на ловлю житейских благ. Но не вправе ли они и в самом деле считать себя правыми?” Давыдов был несомненно прав, потому что сумел сделать блестящую карьеру и, покинув университет, попал не только в ординарные академики, но и в председательствующие русским отделением Академии наук. О его приезде в Петербург в 1842 году, когда Соловьев кончал университетский курс, в дневнике академика Никитенко имеется следующее любопытное известие: “Профессор Давыдов в большой милости у Уварова (министра народного просвещения). Он добился этого грубой лестью, которую министр всегда принимает с простодушием ребенка, чему нельзя не удивляться, ибо у него нельзя отнять ума, если не глубокого, то во всяком случае сметливого. Давыдов особенно завоевал его сердце статьей “О Поречье”, деревне Уварова,— статьею до того льстивой, что она насмешила всех в Петербурге, где нравы не так уже наивны, как в Москве. Уваров теперь принял здесь Давыдова с распростертыми объятиями. Недавно он заставил его прочитать по одной лекции в Екатерининском институте и Смольном монастыре, объявив предварительно девицам, что они услышат “русского Вильмена”. Давыдов явился и не произвел ожидаемого эффекта. Особенно не по вкусу пришелся он в Смольном монастыре. Делая там обзор русской литературы, он отказал в поэтическом даре Державину и вовсе не упомянул о Пушкине, разумеется, из желания угодить Уварову, который никак не может забыть “Лукулла”. В заключение Давыдов сказал, что всему в России дает жизнь и направление министерство народного просвещения. И все это в присутствии Уварова, который не покраснел и тогда даже, когда Давыдов торжественно объявил, что если он (Давыдов) сказал что-нибудь хорошее, то обязан этим не себе, а присутствию его высокопревосходительства: сам он (Давыдов) только “Мемнонова статуя, возбуждаемая лучезарным солнцем”. Пресмыкаясь перед сильным, он требовал, чтобы и перед ним пресмыкались ниже его поставленные; людей дрянных, раболепствовавших он возвышал, и напротив, гнал людей порядочных, державших себя самостоятельно. Как декан он покровительствовал сыновьям знатных и сильных, от которых в свою очередь ждал покровительства, и делал это в ущерб бедным студентам. Давыдов читал студентам историю русской словесности, но не сообщал им ничего нового; курс его был хорошо известен из напечатанных им “Чтений о словесности”. Но так как ему не хотелось повторять самого себя, то он читал вместо двух часов всего час и целый год, что называется, переливал из пустого в порожнее, поэтому студенты называли его курс “Нечто о ничем, или Теория красноречия”. Другим профессором русской словесности был Шевырев, пользовавшийся известностью в свое время, но также не понравившийся Соловьеву, потому что он на своих лекциях увлекался фразерством и риторикой. Шевырев при каждом удобном и неудобном случае говорил в самых напыщенных выражениях о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира и прославлял Россию до такой степени, что лекции его среди студентов были прозваны казенными. Древним языкам обучали: Оболенский — человек знающий, но бездарный и полусумасшедший, над странными речами которого студенты постоянно смеялись; еще более бездарный Меншиков и немец Гофман, ведший обучение совершенно по-гимназически, занимавшийся исключительно грамматикой, при чтении авторов обращавший внимание не на содержание, а на форму. В сороковых годах на философском факультете не преподавалась философия, и потому студенты ожидали общих идей и их развития преимущественно от профессоров словесности и истории. Но литература была плохо представлена, и больше всего извлек Соловьев из исторических лекций. На первом курсе читал древнюю историю профессор Крюков, хотя и не самостоятельный, но даровитый ученый, хорошо знавший западную литературу и увлекавшийся Гегелем. Его блестящее и вместе с тем серьезное изложение увлекало слушателей, давало им не только много новых сведений, но и множество новых идей. Среднюю и новую историю читал Грановский, тогда только что начинавший приобретать известность. Лекции его производили на Соловьева такое же обаятельное действие, как и вообще на всех студентов, хотя чисто внешне Грановский читал нехорошо, говорил тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова. Но внешние недостатки исчезали перед внутренними достоинствами речи, перед внутренней теплотой и силой, дававшей жизнь историческим лицам и событиям. Соловьев сравнивал изложение Грановского с изящной картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры как живые действуют перед вами. “Грановский,— говорит он,— принадлежал к числу тех немногих людей, которых, встретясь с ними раз, нельзя забыть, сошедшись с которыми, тяжело расстаться. Природа одарила его наружностью, какой долго ищут художники: лицо его представляло редкое соединение очертаний мужественной красоты с выражением глубокомыслия и вместе благодушия, сочувствия, которое влекло к нему с неотразимой силой. Теплое и разумное слово его ласкало человека, к которому обращалось, было всегда желанным, дорогим подарком. Грановский был щедр на эти подарки как самый общительный, сочувствующий человек, но с этой щедростью соединялась большая разборчивость. Он принадлежал к числу людей, мнение которых очень дорого ценится, и был судьею строгим при определении нравственного благородства. Такие люди, как Грановский, заставляют многих внутренно охорашиваться; и друзья, и не друзья, прежде чем делать, прежде чем сказать что-нибудь, задавали себе вопрос: “Что скажет об этом Грановский?” Понятно, что с такими нравственными средствами, какими обладал Грановский, влияние его на слушателя было могущественно. Грановский начал свою профессорскую деятельность, когда умы молодого поколения были сильно возбуждены великим стремлением, господствовавшим в исторической науке,— стремлением уяснить законы, которым подчинены судьбы человечества. Несмотря на непререкаемую важность, благотворность этого стремления, и здесь, как во всяком деле, во всяком стремлении человеческом, можно было дойти до вредной односторонности, которая и действительно обозначилась в исторических сочинениях, важных по своему достоинству и влиянию: имея в виду общие законы развития человечества, рассматривая исторических деятелей, целые поколения и народы только как орудия для достижения известных целей, приобретали жесткость взгляда, теряли сочувствие к поколениям и народам, к их радостям и торжествам, их страданиям и падениям; мало того, приобретали равнодушие, неразборчивость при оценке средств, которыми достигались известные исторические цели, целями оправдывались средства, не могущие быть оправданы на суде нравственном: что нужды, если употреблялись средства не нравственные, лишь бы употреблены были они во имя благодетельных для человечества идей. “Идеи не суть индейские божества, которых возят в торжественных процессиях и которые давят поклонников своих, суеверно бросающихся под их колесницы” — вот слова, раздавшиеся в аудиториях нашего университета с появлением в них Грановского. Грановский всеми силами своей любящей, сочувствующей души, всеми могущественными средствами своего живого, теплого таланта стал противодействовать вредной крайности господствующего направления, и в этом состоит его великая ученая и нравственная заслуга. Народы и поколения, в преподавании Грановского, являлись не мертвыми цифрами для решения известных исторических задач: они оживали перед слушателями, которые таким образом вводились в общество своих собратий, жили с ними одной жизнью, сочувствовали им, привыкали видеть в историческом человеке существо живое, чувствующее, и потому привыкали осторожнее обходиться с ними в своих чувствах, в своих суждениях. Грановский своим живым, теплым отношением к слушателям всего лучше напоминал учителя древнего мира: преподавание его не ограничивалось лекционными часами, студенты и окончившие университетский курс находили в нем всегда горячую готовность делиться с ними своими громадными сведениями, указывать средства к занятиям и доставлять эти средства из своей превосходно составленной библиотеки. Но что всего важнее было при этих беседах — это живительное впечатление, производимое на молодых людей, вступающих в жизнь, человеком, полным жизни, полным горячего сочувствия ко всем ее вопросам,— человеком, готовым всегда служить своим собратиям и словом, и делом. Отсюда понятна сильная привязанность к нему учеников и всех людей, близко его знавших”. Благотворное влияние Грановского, заставившего Соловьева заняться всеобщей историей и полюбить ее, сказалось впоследствии в главном труде последнего — “История России с древнейших времен”. Казалось бы, что Соловьев, избравший своей специальностью русскую историю, должен был больше всего научиться у того профессора, который посвятил себя той же специальности. На самом деле это было не так. На последних курсах русскую историю читал Погодин, приобретший уже тогда громкую известность и занимавший кафедру пятнадцать лет. Погодин изучал почти исключительно древнейший период русской истории, главные его работы посвящены “варяжскому вопросу”; тем же самым он занимался в университете, и курс его был мало поучителен и еще меньше занимателен. Месяца два посвящал он славянским древностям, которые читал буквально по Шафарику; затем переходил к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и о происхождении варягов-русичей, то есть сообщал то, что было им изложено в двух его диссертациях. В этом заключалась главная часть его курса, остальное время Погодин посвящал чтению Карамзина, без всяких исторических пояснений, потому что не следил за наукой и не мог делать нужных дополнений по новым источникам. Он приносил с собой Карамзина и превращал лекцию истории в лекцию риторики, выбирая преимущественно красивые места. Погодин читал с восторгом описание Тамерлановых подвигов и требовал от слушателей, чтобы они также восторгались этим описанием, затем обращал внимание студентов на необыкновенное искусство, с которым Карамзин переходит от рассказа об одном событии к рассказу о другом. Главная его цель была при этом убедить слушателей, что русская история интересна, что она не хуже какой-нибудь другой, французской или английской. Погодин останавливался там же, где остановился Карамзин, то есть на 1612 годе. Таким образом, из его лекций слушатели могли основательно познакомиться только с “варяжским вопросом” да с некоторыми местами из “Истории государства Российского”, которые легко было прочесть и без профессора; по книгам в то время нельзя было изучить русскую историю после Смутного времени, и этот существенный пробел не восполнялся курсом Погодина. Значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, и такие беседы могли бы быть очень полезны, если бы имели другой характер. Но Погодин ограничивался указаниями на то, чем следует заниматься, мог изложить историю сословий, историю отдельных княжеств и т. п., но самого главного, что требуется от профессора, он не говорил,— как заниматься, как работать над источниками. Он жаловался, что молодые люди самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков. “Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова пилить”,— выражался Погодин со свойственной ему откровенностью, разумея под этим, что никто не соглашается подыскивать ему нужные места в источниках, вообще заниматься подготовительной работой, которой он, Погодин, мог бы воспользоваться, сберегая таким образом свои силы и время. Подобные беседы только смешили студентов и возбуждали антипатию к профессору. Университетская молодежь и так не питала к Погодину никакого уважения, он пользовался репутацией грубого до цинизма, самолюбивого и корыстолюбивого человека, — таким он и был на самом деле — умный и плутоватый мужик, по выражению академика Никитенко. Понятно, что при таком составе профессоров наиболее плодотворным для Соловьева было занятие всеобщей историей. В то время в ней господствовало философское направление, и увлечение Гегелем было так сильно, что студенты постоянно выражались гегелевскими терминами. Это направление было полезно в том отношении, что заставляло студентов думать, не ограничиваться фактами, но делать широкие обобщения. Философия истории Гегеля произвела такое сильное впечатление на Соловьева, что он, правда на короткое время, увлекся протестантским учением и собирался сделаться философом и разрабатывать религиозные вопросы. Но скоро любовь к истории взяла верх, и Соловьев погрузился в чтение исторических книг, преимущественно европейских ученых — Гиббона, Вико, Сисмонди. На последнем курсе он больше всего занимался русской историей, самостоятельно работал с источниками, так как наша литература того времени отличалась бедностью. Кроме Карамзина, читать было почти нечего; Карамзина он изучил еще в гимназии, да притом этот историк не удовлетворял даже студентов. Из сочинений по русской истории самое большее впечатление произвело на Соловьева “Древнейшее право руссов” Эверса, где он нашел указание на родовой быт у славян, чем впоследствии воспользовался в создании своей теории. Погодин обратил внимание на Соловьева, когда тот подал ему сочинение о первых веках русской истории, в котором опровергнул несколько положений профессора. Однажды с кафедры он обратился с таким воззванием: “Господин Соловьев, зайдите как-нибудь ко мне!” Студент, конечно, отозвался на такое любезное приглашение наставника и стал ходить к нему в гости, но не часто, потому что приглашение получил уже во втором полугодии, перед окончанием курса. Погодин любезно принимал Соловьева, предоставил ему возможность пользоваться своим знаменитым древлехранилищем, богатым рукописями, которое, кстати сказать, он впоследствии продал публичной библиотеке за сто пятьдесят тысяч рублей. Но работы своего слушателя Погодин так и не разобрал и ограничился замечанием: “Я хотел было с вами потолковать о вашем сочинении, но куда-то его запрятал, так что отыскать не могу”. В то же время Соловьев подал Крюкову сочинение по египетской истории, и работа эта так понравилась профессору, что он однажды громко объявил в присутствии других студентов: “Господин Соловьев, я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться!” На этом основании Крюков довольно настойчиво предлагал Соловьеву заняться древностями, но последний отказался, так как не чувствовал влечения к латинской грамматике и вообще филологии, изучение которой сопряжено было с изучением древней истории. Соловьев окончательно решился посвятить себя русской истории. Выпускные экзамены Соловьев сдал, как всегда, блистательно и получил одобрение даже Погодина. Обращаясь к начальству, присутствовавшему на экзамене, профессор сказал: “Рекомендую господина Соловьева, это — лучший студент курса по русской истории, один из лучших во всё продолжение моей профессорской службы; не скажу — лучший из всех: были прежде и другие такие же”. ГЛАВА II Заграничное путешествие. Магистерский экзамен. Диссертации на степень магистра и доктора истории. Профессорская деятельность. В то время, когда Соловьев находился в старших классах гимназии и потом в университете, попечителем Московского учебного округа был граф Сергей Григорьевич Строганов. Он уважал науку, любил литературу и выше всего ставил в человеке талант, трудолюбие, честность, прямоту, благородство и строгое исполнение своих обязанностей. Он не любил давать места по протекции, и прийти к Строганову с рекомендательным письмом от знатной дамы или знатного господина значило навсегда погубить себя в его мнении и никогда не получить места. Он доверял людям хотя и незнатным, но знающим и понимающим. К Строганову нельзя было подольститься, ему можно было понравиться исключительно личными достоинствами и усердным исполнением своих обязанностей. Своим подчиненным он позволял высказывать свои мнения совершенно откровенно и спорить сколько угодно. Одного из чиновников, служивших под его началом, Строганов хвалил таким образом: “Что это за человек! Бывало, начну с ним говорить, спорить, указывать ему — не даст слова выговорить! Прекрасный, честный человек, крепкий в своих убеждениях!” “После двухлетнего гнета под ферулою Д. П. Голохвастова (помощника попечителя),— рассказывает Буслаев в своих воспоминаниях,— мы, студенты 1834 года, могли вполне оценить и радостно почувствовать на себе самих благотворную силу обновления во всем строе университетской жизни. Предшественник графа Строганова, князь Сергей Михайлович Голицын, знаменитый первый вельможа в Москве, был человек решительно добрый и благотворительный, но — странное дело — ровно ничего для университета не делал, а вполне предоставлял Голохвастову делать все что угодно. Он даже вовсе и не любил университета и при нас в течение двух лет ни разу не был в аудиториях на лекции; только однажды посетил он нашу казенную столовую во время обеда, прошелся взад и вперед между столами и закинув голову смотрел по верхам в потолок, на студентов же вовсе ни на кого и не взглянул. Граф же Строганов чуть не каждый день посещал лекции профессоров и внимательно слушал каждую с начала до конца, никогда не оскорбляя профессора преждевременным выходом из аудитории, а во время переходных и выпускных экзаменов любил знакомиться с успехами и способностями экзаменующихся студентов и с особенным вниманием и участием следил за теми из них, которые были уже у него на примете по дарованиям и прилежанию” (“Вестник Европы”, 1890, № 12). Строганов застал в университете множество профессоров бездарных, отсталых, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшихся вследствие этого насмешкам студентов. Молодых людей, в которых попечитель усматривал особенное дарование и трудолюбие, он отправлял учиться за границу и таким образом обновил Московский университет. К этим молодым ученым принадлежали наиболее видные представители сороковых годов: Грановский, Крюков, Кавелин, Буслаев. Погодина же, Шевырева и Давыдова Строганов не любил за их нравственную неопрятность, но терпел в университете, потому что заменить их было некем: для изучения русской истории и словесности молодежь не посылали за границу. Пользуясь враждою между попечителем и министром народного просвещения Уваровым, Погодин, Шевырев и компания старались заручиться покровительством министра, и старания их увенчались успехом. Соловьева Строганов заметил еще в гимназии и в университете начал покровительствовать ему, предугадав, что этим талантливым юношей в будущем можно будет заместить неприятного ему Погодина. Отвергнув предложение Крюкова и занявшись преимущественно русской историей, Соловьев не имел никакой надежды быть посланным за границу на казенный счет. Между тем он считал для себя очень важным поучиться у европейских профессоров, но не мог сделать это на свои средства. Поэтому он очень обрадовался, когда по рекомендации попечителя получил предложение занять место домашнего учителя в доме его брата, графа Александра Григорьевича Строганова, проживавшего тогда за границей. Летом 1842 года Соловьев отправился в Теплиц, где находились Строгановы, но по дороге остановился на короткое время в Берлине и прослушал здесь несколько лекций знаменитых ученых: философа Шеллинга, великолепного старца с орлиным взглядом, производившего большое впечатление торжественностью своей речи; церковного историка Неандера, пользовавшегося громкой известностью; патриарха новой истории Ранке, а также Раумера, географа Риттера. Соловьеву необходимо было спешить в Теплиц, и несколько берлинских лекций не могли принести ему большой пользы: он прослушал их из любопытства, желая посмотреть на знаменитых людей. В Теплице Соловьев познакомился с семейством Строгановых, в котором ему пришлось прожить больше года и которое ему не понравилось. По рождению, воспитанию и образованию у него не было ничего общего с графом Александром Григорьевичем, опальным министром внутренних дел, и легкомысленной графиней, увлекавшейся католицизмом и иезуитами. Но хотя Соловьев и не мог сдружиться со Строгановыми, жизнью своей он был вполне доволен, потому что пользовался большой свободой. Из Теплица Строгановы после приезда нового учителя переехали в Париж, и здесь Соловьеву приходилось только учить двенадцатилетнего графа Виктора Александровича, при котором состоял француз-гувернер. Занятия проходили по утрам, не более трех часов в день, и затем Соловьев мог делать все что ему было угодно. Позавтракав, он отправлялся в Королевскую (теперешнюю Национальную) библиотеку, работал там до трех часов, потом возвращался домой, писал до обеда, то есть до шести часов, а вечером читал новые книги и журналы. Не имея возможности работать над русской историей по недостатку книг, он занимался всеобщей историей, преимущественно славянской. Уже тогда в голове Соловьева зарождались общие исторические теории, касавшиеся жизни всех народов; он задумывал сочинение, в котором хотел объяснить главнейшие явления в истории человечества отношением дружины к родовой общине, антагонизмом между замкнутым родом и выделившейся из него группой людей. С этой целью он изучал историю древних и новых народов, семитические племена и славяне являлись, казалось ему, представителями родового начала, а греки — представителями дружинного; в борьбе патрициев и плебеев он видел борьбу родового и дружинного начал. Соловьев осуществил свое желание гораздо позднее, уже незадолго до смерти, когда написал свои статьи под названием “Наблюдения над исторической жизнью народов”; но достойно внимания, что в нем уже в юные годы проявлялась склонность к широким обобщениям,— он не мог ограничиться разработкою специальных вопросов, и в этом нельзя не видеть влияния Грановского. По воскресеньям Соловьев отдыхал, всегда ходил в русскую церковь, после обедни отправлялся вместе с Сажиным, гувернером князя Гагарина, осматривать Париж, обедал в ресторане, вечером посещал театры, смотрел знаменитую Рашель, предпочитая, впрочем, комическую оперу и водевиль, где можно было посмеяться. Соловьев не ограничивался занятиями в библиотеке, но посещал также университетские курсы в Сорбонне и Collège de France, на которые по французскому обычаю допускалась любознательная публика. Французское преподавание и парижские профессора не понравились Соловьеву. Вот что писал он в своей статье о Парижском университете: “Характер французского народа, живой и нетерпеливый, требующий непосредственного применения деятельности умственной к деятельности практической, расторг преграду, отделяющую в других государствах университет от общества. Подобно картинным галереям, публичным библиотекам, университетские аудитории открыты для всех; толпа хлынула в святилище: что же? освятилась ли толпа или осквернила святилище? Увидим. С одной стороны, университетское преподавание выиграло от тесного сближения с обществом: профессор, имея в виду не малое число избранных посвященных, но сонм людей всех состояний, начал заботиться о доступности своего изложения для каждого слушателя; отсюда ясность речи, доведенная до высшей степени: французский профессор кокетничает этим качеством, умением находить способы объяснения один другого легче, один другого явственнее; часто он составляет целый ряд объяснений, поражая слушателей возможностью найти еще легчайшее истолкование предмета, уже и без того удовлетворительно уясненного. Кроме того, являясь перед многочисленное собрание, профессор почитает обязанностью дать своей скромной музе блестящий наряд: отсюда речь его обработанна, звучна, блестяща. Легко можно понять, какую огромную пользу получает оттого язык, над которым со тщанием трудится многочисленное сословие мыслителей: каждый профессор исполняет обязанность члена Французской академии и не будучи включен в заветное число сорока. В то же время слух присутствующих приучается к правильности, налаживается на гармонию; надо видеть, до какой афинской тонкости дошли парижане в отношении к языку: каждое счастливое выражение, каждое гармонически составленное предложение замечено и награждено рукоплесканиями. Но этим и ограничиваются выгоды тесного сближения университета с обществом. Встретившись с обществом лицом к лицу, университет удержал ли за собою первенство положения? Нет, он уступил, преклонился, поддался! Отсюда ряд оскорбительных, унизительных явлений. Лекция для парижан занимает место утреннего спектакля. Туда идут, чтобы без скуки провести время, узнать вскользь что-нибудь занимательное, а больше всего удовлетворить своей народной страсти — послушать хорошего оратора. Не заботятся о содержании, лишь бы было хорошо рассказано; не говорят о том, что говорит профессор, но с восхищением повторяют несколько сильных или звучных фраз. Что же профессора? Стараются ли удержать, обуздать такое ложное направление, дать народному характеру более степенности, образовать по возможности из этого пылкого, вечно молодого народа народ более сознательный и отчетливый, внушая ему более уважения к вещам важным, показывая, что цель науки — научать, а не забавлять, и что народ, требующий картинок к учебнику, тем самым сознается в своем младенчестве? Нет, я уже сказал, что университет не удержал своего высокого характера. Профессор есть покорный слуга слушателей, он хочет снискать их благосклонность; громкие рукоплескания — существенная его цель, средства к ее достижению для него — дело второстепенное. Эти средства обыкновенно суть: отделать как можно тщательнее внешнюю часть речи, чтобы не утомить внимания слушателей, разжидить как можно более содержание, опуская подробности; чтобы и тут содержание не показалось слишком серьезным, развести его достаточным количеством острот, напоследок сосредоточить весь интерес к концу, к части патетической, чтобы последние слова были заглушены рукоплесканиями. Если сухость содержания не допускает патетической части, то оратор привязывается к отдельной мысли, не находящейся в большой связи с главным, часто воспламеняется одним словом и приделывает патетическую часть; так, например, дело идет об этрусках: какую занимательность может найти парижанин в этрусской истории, когда в палате рассуждается об испанских делах или о свекловичном сахаре? В таком случае профессор говорит, что этруски погибли, потому что не шли путем, по которому теперь идет Франция, а Франция и свобода — это такие два слова, которые необходимо должны заслужить рукоплескания, хотя бы даже в этрусской истории. Впрочем, беспрестанные намеки на Францию и ее настоящее состояние не заслуживали бы никакого упрека, потому что каждый профессор должен иметь всегда в виду отечество и народность, и приложение уроков прошедшего к настоящему состоянию государства было бы всегда прилично, если бы в подобном приложении видна была одна пламенная любовь к отчизне; к сожалению, легко усмотреть, что священное слово “родина” в устах большей части профессоров служит только средством к возбуждению участия и рукоплесканий, к раздражению, а не к назиданию толпы, и вот почему для чужеземца, приходящего с другими понятиями, подобное повторение кажется утомительным и недостойным” (“Москвитянин”, 1843, № 8). Как в публичном преподавании Соловьев не хотел видеть хорошей стороны, так и к французским профессорам он относился отрицательно, отчасти потому, что в то время увлекался ложным патриотизмом и заразился несколько славянофильским духом. Из известных в то время историков Соловьев слушал Мишле и Ленормана, но обоими остался неудовлетворен. Гораздо снисходительнее Соловьев относился к филологам и профессорам литературы. С.-Марка Жирардена он слушал с наслаждением и вполне оценил его глубокий критический ум. “Кине,— говорит он,— избравший предметом своего курса историю древней немецкой, итальянской и испанской литературы, не заботясь ни о рукоплесканиях, ни о количестве слушателей, никогда не унижает своего достоинства мерами противозаконными на кафедре; лекция его всегда обилует содержанием, речь его проста, безыскусственна”. Лето 1843 года Строгановы собирались провести на богемских водах, а так как для Соловьева не хватило места в их карете, он отправился туда один и, воспользовавшись случаем, осмотрел по дороге Страсбург, Штутгарт, Мюнхен и Регенсбург. Приехав в Карлсбад, он узнал, что Строгановы будут еще нескоро, и поехал в Прагу, где познакомился с известными славянскими учеными Ганкой, Палацким и Шафариком, а также с кружком властенцов (патриотов), мечтавших об освобождении Чехии из-под власти Австрии. Этот кружок молодых людей, добродушных и нравственно чистых, служивших идее и живших исключительно мечтой, хотя они и отличались наивностью, произвел очень приятное впечатление на Соловьева. Так, например, один властенец-гравер показывал с восторгом свою только что оконченную работу: здесь был изображен орел, которого ухватил за шею лев. Лев — это символ Чехии, которого властенцы противопоставляли орлу, изображенному на австрийском гербе. Зиму 1843/44 года Соловьев вновь прожил в Париже у Строгановых, часть следующего лета провел в Гейдельберге, где слушал лекции историков Pay и Шлоссера; а конец лета — опять у Строгановых на богемских водах; осенью 1844 года он возвратился в Москву, где надеялся получить кафедру. Во все время своего заграничного путешествия Соловьев не прекращал переписки со своим учителем Погодиным. Веря в расположение московского профессора, он сообщал ему о ходе своих занятий и даже обращался к нему за советом. Весной 1844 года Строгановы уговаривали Соловьева остаться у них еще на год, но он находил это для себя бесполезным, потому что за границей невозможно было заниматься русской историей, а ему хотелось поскорее выдержать экзамен на магистра и получить кафедру. Поэтому он написал Погодину с просьбою сообщить, что происходит в Московском университете и на что он может рассчитывать. Ответ не заставил себя ждать, но отличался двусмысленностью. Погодин горячо благодарил Соловьева за оказанное ему доверие, к чему он очевидно не привык, сообщал, что он оставил кафедру, думает ехать в Швецию заниматься “варяжским” периодом, в Южную Сибирь — для занятия “монгольским” периодом; что, с одной стороны, Соловьеву нужно было бы возвратиться в Россию для занятия русской историей, но, с другой стороны, пожить подольше за границей было бы ему также очень полезно, что во всяком случае он может рассчитывать на место адъюнкта при университете. Письмо это удивило Соловьева своей странностью, потому что он в то время еще не понял характера Погодина и не знал, что делалось в Москве. Авторитет Погодина сильно пошатнулся в сороковых годах, попечитель не благоволил к нему, и, следуя своему грубому и неуживчивому характеру, он находился во вражде с молодыми профессорами, так называемыми западниками. Погодин был столько же публицистом, сколько ученым: он издавал журнал “Москвитянин”, орган православно-русского направления, по выражению его биографа г-на Барсукова. Каково было это направление, видно из одной редакционной статьи, написанной Погодиным. “Благоговение пред русской историей до Петра I, воздание должной чести Москве, осуждение безусловного поклонения Западу, сознание национального достоинства, уверенность в великом предназначении русского народа не только в политическом смысле, но и в человеческом, уверенность в величайших дарах духовных, коими наделен русский человек для подвигов на поприще наук и литературы, сочувствие к племенам славянским, их истории, литературе и судьбе, непримиримая, открытая вражда к противоположному направлению — вот в кратких словах программа “Москвитянина”. Крайнее направление этого журнала удивляло даже таких умеренных людей, каким был цензор и академик А. В. Никитенко. “Читал между прочим “Москвитянина”,— пишет он в своем дневнике.— Чудаки эти москвичи, ругают Запад на чем свет стоит. Запад умирает, уже умер и гниет. В России только и можно жить и учиться чему-нибудь. Это страна благополучия и великих убеждений. Если это искренно, то москвичи — самые отчаянные систематики. Они отнимают у Бога тайны его предначертаний и решают по-своему жизнь и упадок царств. Они похожи на школьников, которые считают себя всемирными мудрецами, все знают и все могут. Они действительно являются выражением нашей младенчествующей самостоятельности”. Понятно, что такое направление пришлось не по сердцу молодым профессорам, гордившимся своим европейским образованием, не нравились им и грубые манеры Погодина. Последний не стеснялся, называл молодых профессоров немцами, громогласно говорил, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов. Погодин доходил до того, что западников, и среди них людей весьма почтенных, называл подлецами и негодяями. Вражда разгорелась особенно сильно в конце 1843 года, когда глава западников Грановский открыл в университете публичный курс по истории средних веков и его талантливые лекции снискали большой успех у публики. Герцен приходил от них в восторг. “Какой благородный, прекрасный язык,— пишет он в своем дневнике,— потому именно, что выражает благородные и прекрасные мысли. Я очень доволен. Его лекции — в самом деле событие. И как современны они, какой камень в голову узким националистам!” А Погодин занес в свой дневник следующие несправедливые слова: “Был на лекции у Грановского. Такая посредственность, что из рук вон, это — не профессор, а немецкий студент, который начитался французских газет. Сколько пропусков, какие противоречия… России как будто в истории и не бывало. Ай, ай, ай! А я считал его еще талантливее других...” Хотя “Москвитянин” старался уничтожить Грановского и западников, они все-таки были в большинстве, пользовались покровительством попечителя и симпатиями студенчества. Поэтому Погодин подал в феврале 1844 года прошение об отставке из-за расстроенного здоровья, но при этом заявил Строганову, что если здоровье его в продолжение одного или двух лет восстановится, то он почтет священной своей обязанностью поступить вновь в преподаватели университета, если это угодно будет начальству. Погодин надеялся, что министр попросит его отдохнуть и не оставлять университета, но, вопреки его надеждам, отставка была принята, и профессор негодовал на самого себя за такой неосмотрительный шаг. В его позднейших воспоминаниях находятся следующие откровенные слова: “Года через два я думал опять вступить в университет с более укрепленными силами и по собственной просьбе начальства, что было бы для меня гораздо крепче, а теперешние неудовольствия могли, представлялось мне, кончиться по какому-нибудь случаю увольнением даже без пенсии, которую мне хотелось, так сказать, застраховать, пока министром был Уваров, мне благожелавший. Опасение и намерение неосновательные; я был уверен также, что через два года обратятся ко мне с просьбою, потому что нельзя же оставлять университет без русской истории, и в том, как оказалось, я ошибся жестоко. Вообще, этот шаг должен я считать теперь совершенно опрометчивым и имевшим вредное влияние на гражданскую внешнюю мою жизнь”. В преемники по кафедре Погодин наметил себе молодых ученых менее талантливых, чем Соловьев, и притом таких, которые не намеривались посвятить себя исключительно русской истории. Одним из этих кандидатов был Григорьев, занимавший кафедру восточных языков в Ришельевском лицее в Одессе. В то время когда Соловьев проводил вторую зиму в Париже и рассчитывал на благорасположение своего профессора, Погодин убеждал Григорьева сделаться его преемником. Григорьев вполне сознавал, что он не подготовлен для этой кафедры и решительно отказывался; Погодин долго убеждал его. “Приготовляйтесь к лекциям со дня на день,— писал Погодин Григорьеву.— Попечитель остановился теперь на Соловьеве, кандидате, который должен воротиться из путешествия; малый он хороший, с душою, но, кажется, слишком молод”. В ответе на это письмо читаем следующие удивительные строки: “Если в Соловьеве один недостаток — молодость, так беда невелика; по-моему: молод да умен — два угодья в нем. Беда не в молодости его, а, как я слышал, в том, что рано он хитрить начал и не годится для кафедры русской истории не по уму и не по сведениям, а по недостатку нравственного достоинства, но этого Строганов не понимает”. Все знавшие Соловьева единогласно подтвердят, что скорее у него можно было отнять ум и талант, чем нравственное достоинство. От кого Григорьев слышал подобную клевету? Он не знал Соловьева лично, потому что с 1838 года находился в Одессе. Не шла ли эта клевета из Москвы? По возвращении из-за границы Соловьев очутился в довольно неловком положении. Статья его о Парижском университете, выдержки из которой я привел выше, пришлась по вкусу Погодину и была напечатана им в “Москвитянине”, но именно по этой причине не могла понравиться западникам. Неприятно действовало отрицательное отношение к Парижскому университету, а так как Соловьев ничего другого не печатал о своем заграничном путешествии, можно было думать, что он вообще относится пренебрежительно к европейской науке, чего на самом деле не было. Упомянутая статья написана действительно в узконациональном духе. Она начинается такими словами: “Для каждого путешественника-наблюдателя первым предметом любопытства в государстве, среди которого гостит он, должно быть народное образование, закончание которого сосредоточивается обыкновенно в высших учебных заведениях, в университетах. Если человек родится в свет грубым материалом, которому семейство должно сообщить человечественную форму, то университет обязан дать ему форму гражданскую, образование гражданина в настоящем, полном значении этого слова, и стыд тому семейству, из которого молодой человек выходит без наследия, без имени отеческого, заклейменный печатью чуженародности в поступках, мыслях и словах; такой сын должен считаться незаконным в высшем, гражданском смысле. Но еще несчастному юноше остается средство спасения: он может быть усыновлен отечеством чрез университет; но он погибает окончательно, если и здесь встречает чуждое направление,— и стыд и горе такому университету!” Статья кончается совершенно в тоне “Москвитянина”. “Никогда,— говорит Соловьев,— полное удовлетворение не было моим уделом после лекции Ленормана; никогда не мог я освободиться от чувства какого-то недостатка, пустоты, даже неприличия; мне было грустно, мне было стыдно за Ленормана, и — странное дело — эта грусть, этот стыд увеличивались в той мере, в какой увеличивалось мое уважение к оратору. Русские поймут подобное состояние духа, оно дало мне знать, что я принадлежу к семье того великого народа, высокой природе которого суждено представить совершенство природы человеческой: я разумею гармоническое сочетание ума и чувства. Вот почему не по нас сухое преподавание немецкое, вот почему не может удовлетворить нас одна восторженная импровизация французов; для нас здесь не существует выбора,— оба направления, взятые порознь, нам чужды, противны естеству, не народны. И особенно теперь, в эту торжественную эпоху, когда с развитием народного самопознания явилась сильная потребность знания, когда общество стремится сблизиться с университетом, хочет заключить с ним святой союз для дружного, братского прохождения своего великого поприща: теперь-то всего более надобно говорить по-русски. И высокая мудрость правительства, всегда сочувствующая нашим потребностям, призывает таланты в великом деле народного оглашения (позволением читать публичные лекции даже и не членам университета). Да откликнутся же на этот призыв мужи науки, в сердце которых горит святое пламя отчизнолюбия, и да заговорят с нашим обществом речью русскою, умной и вместе теплой. Но прежде пусть взвесят собственные силы и уразумеют всю великость своего назначения. Да страшатся унизить науку потворством обществу: русское общество накажет презрением человека, осмелившегося предложить ему забаву вместо назидания. Да страшатся представить обществу мертвую книгу вместо человека живого и любящего: русское горячее сердце требует голоса сердечного, на русской почве мысль без чувства беспотомственна. Но да остерегаются также раздражать сердце без удовлетворения уму: русско-ясный, здравый ум поймет недостаток, и сердце откажется внимать человеку, пренебрегшему его привычным сопутником. Более всего да боятся предстать пред общество неприготовленными, да боятся искушать вдохновение! Но если труд добросовестный и вдохновение сопровождали ученого при его занятиях, то пусть смело идет он представить обществу плоды этих занятий. Великий поэт и патриот Италии в дивной своей поэме превосходно изобразил силу речи народной, представив мертвеца, восстающего из гроба при звуке родного языка. Но если мертвецы откликаются на родную речь, то как же откликнется на нее народ, который Провидение благословило жизнью полной, совершенной”. По поводу этой статьи Соловьев писал Погодину из-за границы: “Человек, кажущийся Вам хорошо ко мне расположенным, писал, что-де статья моя о Парижском университете хороша, но окончание-де слишком похоже на фразы “Москвитянина ”! Вот что готовится моей русской душе в России! То, чем единственно горжусь я, то, почему единственно считаю себя чем-нибудь, называют фразами! Скажите мне, господа цивилизованные европейцы, почему вы, замечая с таким тщанием все полезное и бесполезное на Западе, до сих пор не заметите одно — того, что здесь каждый народ гордится своей народностью, любит и хвалит ее; отчего одни русские лишены права делать то же? Кто из нас более европейцы,— вы ли, которые разнитесь с ними в самом существенном, или мы, подражающие им в этом? Вы, приезжая из Парижа, хотите тотчас похвастаться глубокомысленным суждением о Тьере и Гизо, новым фраком и цепочкою; зачем вы не хотите позволить и нам также показать парижский тон, ставя свое и своих выше всего на свете, как то водится в парижском обществе? Нет, милостивые государи, вы не убедите меня, что я рискую возвратиться из Европы с варварскими понятиями и квасным патриотизмом; у меня есть доказательство моего европеизма: когда я говорю с европейцем, хвалю, защищаю Россию, то он понимает меня, находит это естественным, ибо сам поступает так же в отношении к своему отечеству, но вас, позорящих отчизну, вас не понимает он, считает уродами, презирает”. Соловьев увлекался русофильством главным образом потому, что в высших сферах, с которыми пришлось ему столкнуться в ту пору, когда он далеко еще не созрел, господствовала галломания и слишком большое презрение ко всему русскому. Профессора-западники косо смотрели на него, потому что считали его славянофилом, последователем Погодина, и, отделавшись от последнего, не желали вступления в университет подобного же профессора. О Соловьеве они судили по его статье, не зная, что он вовсе не такой славянофил, как они думали, потому что он ни к кому из них не ходил, ни перед кем не заискивал. Он сидел у себя дома, стараясь как можно лучше подготовиться к магистерскому экзамену и написать поскорее диссертацию. Кроме истории всеобщей и русской, географии древней и новой, приходилось экзаменоваться в политической экономии и статистике. Поэтому Соловьев зашел к профессору Чивилеву, читавшему политическую экономию, желая сообщить ему, что главная его цель — показать свою способность занять кафедру русской истории, для чего будет служить диссертация, а чтобы написать хорошую диссертацию, надо употребить на нее все время, а не тратить его на предметы второстепенные. Соловьев желал, как это обыкновенно делалось и делается до сих пор, чтобы профессор указал ему те вопросы, на которые ему придется отвечать. Но Чивилев, принадлежавший к партии западников, принял его очень сухо и, когда он спросил, что ему нужно приготовить к экзамену, отвечал, что, если он прочтет все книги по политической экономии и статистике, рекомендованные им на лекциях, этого будет достаточно. Само собою разумеется, что такая задача была непосильна для историка и подобное требование уместно было бы предъявлять только специалисту, посвятившему себя экономическим наукам. Западники были настроены против Соловьева, но в то же время славянофилы не поддерживали его, и он не искал их покровительства. К тому же в университете был в то время один только славянофил Шевырев, не пользовавшийся уважением товарищей. Шевырев вместе с Погодиным интриговал, чтобы последнего упросили занять вновь только что оставленную кафедру. Соловьев зашел как-то к декану Давыдову, чтобы поговорить с ним о предстоящем экзамене. Давыдов с нахмуренным лицом вдруг спросил его: — Что же это значит? Михаил Петрович Погодин хочет опять войти в университет, ведь мы имели вас в виду. Давыдов не любил Погодина как своего соперника, так как они оба обхаживали министра Уварова и выпрашивали у него всякие милости. Вопрос декана очень озадачил Соловьева, и он ответил, что ничего не знает, что это дело университета. Давыдов заподозрил его в неискренности, и таким образом в университетских кружках зародилось ни на чем не основанное подозрение, будто Соловьев находится в сговоре с Погодиным, и последний намерен вернуться на кафедру вместе со своим учеником. Между тем отношения между Погодиным и Соловьевым совсем не были настолько близки и едва ли их можно было назвать дружественными. Погодин не скрывал, что сожалеет о своей отставке. “Вот и Шафарик пишет,— говорил он,— зачем я так рано оставил университет”, но о своих планах он ничего не сообщал. Одна выходка даже сразу отшатнула ученика от учителя, в расположение которого ему все еще хотелось верить. — Что же вы пишете диссертацию,— обратился Погодин к Соловьеву,— а со мной никогда о ней не поговорите, не посоветуетесь? — Я не нахожу приличным советоваться,— ответил Соловьев,— потому что, хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию, она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать вашим советам, то она не будет вполне моя. — Что же за беда,— возразил Погодин,— мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством. Следствием всех этих обстоятельств, борьбы западников со славянофилами, подозрения, что Соловьев принадлежит к партии Погодина, недоброжелательства самого Погодина, было то, что Соловьев выдержал экзамен гораздо хуже, чем этого можно было ожидать, судя по его способностям и громадному трудолюбию. Экзамены на магистра не имеют точной программы, требуется главным образом знание литературы по предмету, а это понятие очень растяжимое: от мнения профессора зависит, знакомство с какими именно сочинениями следует считать обязательным. Притом история — наука такая обширная, что молодые ученые не в состоянии охватить весь материал целиком и обыкновенно ограничиваются изучением той или иной страны, той или иной эпохи. Экзамен на ученую степень может быть очень труден или очень легок,— для Соловьева он был преисполнен всяческих затруднений, потому что после неудачной беседы с Чивилевым он не обращался уже к профессорам с просьбою наметить ему определенные вопросы. Экзамены начались со всеобщей истории в январе 1845 года. Грановский задал Соловьеву три вопроса: один — по истории Франции о первых Капетингах; другой — по истории Испании; третий — о сравнении русской летописи с западной. Нелегко было ответить на все эти вопросы без приготовления, не зная, что они будут заданы, но Соловьеву помогли его заграничные занятия, его обширное знакомство со всеобщей историей. Грановский написал на экзаменационном листе, что Соловьев обнаружил большую начитанность, но что он затрудняется в изложении,— это был намек на то, что он неспособен занимать кафедру. Второй экзамен по русской истории был менее удачен. За неимением специалиста в университете, пригласили Погодина. Он задал экзаменующемуся удивительный вопрос: изложить историю отношений России с Польшей с древнейших до последних времен. На такой вопрос ни сам Погодин, ни кто другой не мог бы ответить удовлетворительно по той простой причине, что в то время как история Польши, так и новая русская история после вступления на престол Михаила Федоровича оставались совершенно неразработанными. Чтобы выдержать подобный экзамен, нужно было много лет просидеть в архивах и изучить нигде не напечатанные документы, что впоследствии и сделал Соловьев, но в 1845 году не было книг, по которым можно было бы уяснить себе отношения России с Польшей за целых девятьсот лет. Соловьев старался уклониться в сторону, показать свое знание собственно русской истории; Погодин останавливал его, требуя, чтобы он говорил только об отношениях с Польшей. Понятно, что присутствовавшие профессора остались недовольны и заявили, что ответ — гимназический, а не такой, как требуется от магистра, и что из такого ответа не видно, может ли экзаменующийся занять профессорскую кафедру. Еще неудачнее прошел экзамен по политической экономии вследствие того, что Соловьев не успел подробно заняться этой наукой, а также вследствие недоброжелательства профессора Чивилева. Единственный человек, который продолжал хорошо относиться к Соловьеву, был попечитель, граф Строганов. К нему-то и отправился Соловьев и, сообщив про неудачный экзамен, прямо объяснил ему, что он считал нелепым заниматься подробным изучением статистики и политической экономии вместо того, чтобы писать диссертацию, которая должна показать его права на кафедру; что же касается до странного вопроса по русской истории, он в этом не виноват. Строганов понял, в чем дело, и, убедившись, что во всем виновата погодинская интрига, к которой Соловьев непричастен, ободрил молодого человека и дал ему понять, что участь его будет зависеть от диссертации, а не от экзамена. Первоначально Соловьев собирался написать книгу об Иоанне III, но, занявшись Новгородом, он заметил, что для уяснения решающих судеб этого города и уничтожения его вольности необходимо проследить отношения Новгорода с великими князьями, и поэтому он написал диссертацию “Об отношениях Новгорода к великим князьям”. В начале Великого поста Соловьев подал диссертацию декану, а тот препроводил ее Погодину, который должен был дать о ней отзыв, так как на факультете не было компетентного лица. Прошло около двух месяцев, Соловьев ничего не знал об участи, ожидающей его работу; жизнь он вел одинокую и чуждался профессорских кружков, где о нем имели не слишком лестное мнение. В четверг на Страстной, гуляя по Арбату, он встретился с Грановским и Кавелиным. Грановский с насмешливой улыбкой спросил Соловьева: — Что же ваша диссертация? Соловьев удивился такому вопросу, потому что Грановский был секретарем факультета. — Давно подана,— ответил он. — Как подана? — возразил Грановский все с тою же насмешливой улыбкой.— Никто на факультете не знает об этом. Соловьев объяснил, что его работа препровождена к Погодину, и после Пасхи зашел к нему с просьбою возвратить наконец диссертацию на факультет со своим о ней мнением, чтобы решился вопрос, считают ли ее достойной ученой степени или нет. На эту просьбу Погодин отвечал следующее: — Я долго думал, как объявить вам мое мнение о вашей диссертации, ибо я чувствую, как тяжело должно быть для вас на первый раз, при первом опыте, выслушать отзыв нелестный: диссертация ваша как магистерская диссертация очень хороша, но как профессорская — вполне неудовлетворительна; приступ блестящий, правда, есть кое-что новое, чем я и сам воспользуюсь, но в изложении нет перспективы; повторяю, труд прекрасный как магистерская диссертация, но как профессорская не годится. Соловьев возразил совершенно основательно, что ни о какой профессорской диссертации не должно быть речи; он желает получить ученую степень, и если Погодин находит его работу удовлетворительной, пусть он сделает соответствующую надпись, и факультет больше не будет беспокоить его. Тогда Погодин стал отнекиваться, говорить, что напишет на диссертации только “читал”. Но Соловьев настаивал: — Если вы говорите прямо, что диссертация удовлетворительна, почему вы не хотите этого написать? Погодин вынужден был уступить и написал на диссертации: “читал и одобряю”. Погодин проговорился: он ничего не имел против Соловьева, если бы тот согласился стать его прислужником, но признать его способным к профессорскому званию он не хотел: ему желательно было, чтобы кафедра русской истории пустовала и чтобы его упросили вновь занять ее. — Вот если бы я был опять профессором,— говорил он однажды Соловьеву,— а вы у меня адъюнктом, то мы бы устроили так: когда бы мне нездоровилось или так почему-нибудь я не был бы расположен читать, то я давал бы вам знать, о чем следует читать, и вы эту лекцию читали бы за меня. Понятно, что Соловьев не соглашался на такую унизительную роль, и Погодину оставалось одно — не пускать его по возможности в университет. Старания его, однако, не увенчались успехом. Как только диссертация попала вновь в руки Соловьева, она была передана Грановскому, а тот, не считая себя достаточно сведущим в русской истории, отдал ее на рассмотрение Кавелину, тогда только что начинавшему свою ученую деятельность и читавшему на юридическом факультете историю русского законодательства. Кавелин пришел в восторг от работы: в ней не было славянофильской направленности, чего он опасался, но было критическое отношение к источникам и широта взгляда. Диссертация Соловьева представляла действительно замечательное явление, в ней изложена была новая теория о старых и новых городах. Восторг свой Кавелин высказал на страницах “Отечественных записок”. “Вышло новое, весьма замечательное сочинение г-на Соловьева,— писал он,— об одной из самых сбивчивых, запутанных эпох и сторон древней русской истории. Это сочинение — диссертация на степень магистра. Главная ее задача, как видно из заглавия,— определить, в каких отношениях находился Новгород к великим князьям древней России, от так называемого начала русской истории до окончательного покорения Новгорода Иоанном III. Эта задача решена прекрасно. Соловьев не удовольствовался общими местами и пустыми рассуждениями, а раскрыл летописи, тщательно сверил их, вник очень подробно в отношения князей и княжеских линий Рюрикова дома как между собой, так и к Новгороду, и изложил эти отношения исторически, следя из года в год за однообразными, скучными переменами князей в Новгороде и борьбой князей, когда она могла пояснить новгородские события. Одна эта чисто историческая, или, лучше, фактическая часть диссертации — большая заслуга автора. Пора же наконец видеть события старой Руси, рассказанные или просто, или критически, но без вычур, без литературных прикрас, какими испещрена “История...” Карамзина. Если бы Соловьев ограничился одним этим, мы и тогда сказали бы ему спасибо за многие новые и дельные замечания, за прекрасное изложение, за строго фактический рассказ истории новгородских князей и за добросовестное решение вопроса, основанное на тщательном изучении источников. Но Соловьев сделал гораздо более. По поводу внутреннего устройства Новгорода и его отношений к князьям он высказал совершенно новый, замечательно оригинальный взгляд на весь период уделов. Кто хоть сколько-нибудь знаком с нашими источниками, знает взгляды или, лучше, отсутствие всяких взглядов на древнюю русскую историю, тот, конечно, оценит мысль Соловьева. Не говоря уже о том, что в ней много поразительно верного, остроумно подмеченного, она потому заслуживает особенного внимания, что представляет первую серьезную попытку понять и объяснить постепенное развитие древней русской жизни. Этого до Соловьева никто еще не делал, по крайней мере печатно, не исключая самого Карамзина”. Рецензию свою Кавелин закончил следующими словами: “Мы не усомнимся сказать, что труд г-на Соловьева сам по себе составляет эпоху в области исследований о русских древностях и подает радостные надежды в будущем. Нам остается поблагодарить автора и пожелать ему для него и для нас, чтобы продолжение его историко-литературного и ученого поприща было так же блистательно, так же обильно результатами, как начало”. Прежде чем напечатать свой отзыв, Кавелин говорил то же самое в университетских кружках, и отношение профессоров к Соловьеву совершенно изменилось: западники приняли его с распростертыми объятиями. Когда Соловьев приехал к Грановскому, он встретил его комплиментами, сознаваясь, что суждение свое основывает на словах Кавелина. — А что Погодин говорит о вашей диссертации? — спросил Грановский. Соловьев передал знаменательные слова Погодина об отношениях диссертации к магистерству и докторству. Грановский не удержался. — Подлец! — сказал он. Строганов очень обрадовался такому ходу дела, он с восторгом слушал похвалы труду Соловьева от тех самых лиц, которые прежде отзывались не слишком лестно о молодом ученом. Попечитель был очень доволен, что может заместить Погодина вполне достойным молодым человеком, и потому приказал Соловьеву готовиться к чтению лекций. В этой ситуации Соловьев выказал благородство своего характера: он не считал себя вправе сердиться на Погодина только за то, что тот не признал его диссертацию достойной профессорской кафедры, и счел своей обязанностью предупредить профессора, старавшегося навредить ему, о том, что готовится в Московском университете. Поэтому, зайдя к Погодину, он откровенно сказал ему: — Знаю, что вы желаете занять опять кафедру, но Строганов велел мне приготовляться к лекциям; имейте это в виду и принимайте какие-нибудь меры. Погодин ответил на это следующей колкостью: — Не знаю, чего хочет Строганов. Хочет ли он, чтобы вы были при мне адъюнктом или при ком-нибудь другом? Слышал я, что он думал о переводе сюда Иванова из Казани; может быть, он хочет, чтобы вы при Иванове были адъюнктом. Погодин хотел уязвить Соловьева, дав понять ему, что самостоятельным преподавателем он все равно быть не может. Понятно, что при таком отношении учителя к ученику между ними не могли долго сохраняться дружеские отношения. 29 июля декан созвал факультет и объявил, что сейчас имеются две вакантные кафедры: философии и русской истории, и что попечитель предлагает двух кандидатов: Каткова и Соловьева. На кафедру философии единогласно был избран Катков, но, когда дошла очередь до Соловьева, Шевырев объявил, что странно будет выбирать на такую важную кафедру молодого, почти неизвестного человека, когда знаменитый ученый Погодин, чувствуя, что его здоровье поправилось, желает опять занять прежнее место. Большинством голосов, однако, постановили выбрать Соловьева, поручив при этом декану спросить Погодина, на каких условиях тот желает опять читать лекции. Давыдов предложил Погодину читать лекции для желающих, в качестве приват-доцента, без всякого вознаграждения. Погодин принял это, конечно, за оскорбление и ответил грубым письмом. В сентябре 1845 года Соловьев начал чтение лекций в качестве преподавателя, и две его первые лекции, заключавшие обзор всей русской истории, произвели благоприятное впечатление на присутствовавших профессоров. — Мы все вступили на кафедру учениками,— сказал Грановский, — а Соловьев вступил уже мастером своей науки. — Дай Бог, чтобы Погодин кончил так, как этот начал, — заметил Строганов. В октябре состоялся диспут Соловьева, прошедший блистательно. Неприятное впечатление произвело только неприличное поведение Погодина. Он объявил, что приехал только с тем, чтобы изложить свое мнение о диссертации, а не с тем, чтобы спорить; поэтому он не желает слышать никаких возражений Соловьева и не обратит на них ни малейшего внимания. Декан, однако, предложил Соловьеву защищаться, так как в этом и заключается смысл диспута, и ему нетрудно было разбить главнейшие доводы Погодина. Казалось бы, что после всего этого отношения между учителем и учеником должны были бы окончательно прекратиться, но добродушный Соловьев через несколько месяцев после диспута все-таки стал заходить к Погодину и ему пришлось выслушать от него разные укоры. — Ваши два приезда ко мне произвели на меня приятное впечатление,— сказал Погодин,— я подумал, молодой человек еще не огрубел; но скажите, разве хорошо вы со мной поступили? — Вы прежде скажите мне, что дурного я сделал по отношению к вам? — ответил Соловьев. — Вы мне привезли экземпляр своей диссертации без всякой надписи, тогда как я видел, что другим вы надписали: какому-нибудь Ефремову и тому надписали. — Но видели вы экземпляры моей диссертации у членов факультета? — спросил Соловьев.— Ни у одного из них вы не найдете с надписью, ибо надписывать я имел право только тем, кому дарил, кому мог и не дать, тогда как лицам официальным, каковы члены факультета, я обязан был дать по экземпляру; они получили экземпляры, так сказать, казенные, а не от меня в дар. Вас я также причисляю к лицам официальным, вы были экзаменатором. Но скажу прямо: конечно, вы получили бы экземпляр с надписью очень для вас лестной, если бы не так поступили со мной, если бы черная кошка не пробежала между нами. — А это хорошо с вашей стороны,— продолжал Погодин,— начать первую лекцию и не сказать ни слова обо мне, вашем предшественнике? — Решительно в голову не пришло,— ответил Соловьев. Но если бы ему это и пришло в голову, он очутился бы в большом затруднении, потому что не мог сказать ничего хорошего о Погодине как о профессоре. Погодин говорил о пустяках, умалчивая о своем главном обвинении против Соловьева,— о том, что он навсегда отнял у него профессорскую кафедру. Несмотря на то что Соловьев читал шесть лекций в неделю, он энергично принялся за докторскую диссертацию и успел написать ее летом 1846 года. В 1847 году она была напечатана и составила большую книгу в семьсот страниц под заглавием “История отношений между русскими князьями Рюрикова дома”. Надо удивляться, каким образом Соловьев успел за такое короткое время закончить это обширное сочинение, где он критически исследовал наши летописи, княжеские договоры и другие документы с древнейших времен до Иоанна IV, где представил новую теорию, объясняющую общий ход русской истории за указанный период. Введение должно было привлечь внимание историка новизною взглядов. “Мы привыкли,— говорит автор,— к выражениям “разделение России на уделы”, “удельные князья”, “удельный период”, “удельная система”, “исчезновение уделов при Иоанне III”. Употребляя эти выражения, мы необходимо даем знать, что Россия, начиная от смерти Ярослава I до конца XVI века, была разделена, ставим удел на первом плане, даем главную роль; за удел идут все борьбы, около удела вращается вся история, если период называется “удельным”, если господствует удельная система. Но раскроем летописи от времен Ярослава до XIII века: идет ли в них речь об уделах? встречаем ли в них речь об уделах? встречаем ли выражение “удельный князь” и “великий”? Происходит ли борьба за удел, за распространение, усиление одного удела на счет другого, разделена ли, наконец, Россия? Нисколько, все князья суть члены одного рода, вся Русь составляет нераздельную родовую собственность; идет речь о том, кто из князей старше, кто моложе в роде: за это все споры, все междоусобия. Владение, города, области имеют значение второстепенное, имеют значение только в той степени, в какой соответствуют старшинству князей, их притязаниям на старшинство, и потому князья беспрестанно меняют их. Интерес собственника вполне подчинен интересу родича. Вместо разделения, которое необходимо связано с понятием об уделе, мы видим единство княжеского рода. В летописи вы не находите отношений великого князя к удельным: вы находите только отношения отца к сыновьям, старшего брата — к младшим, дядей — к племянникам; даже самое слово “удел” мы не встречаем в летописи; если не было понятия о разделе, о выделе, об отдельной собственности, то не могло быть и слова для его выражения. Когда же на севере явилось понятие об отдельной собственности, то явился и удел,— до этого же времени мы встречаем только слова “волость” и “стол”. Таким образом, выражения “удельный период”, “удельная система” приводят к совершенно ложному, обратному представлению, выставляя господство удела, владения, отдельной собственности в то время, когда господствовали родовые отношения при нераздельной родовой собственности. Единство Ярославова рода рушится, и Русь делится на несколько княжеств, каждое со своим великим князем, потому что великий князь означает только старшего в княжеском роде, и если род Ярослава раздробился на несколько особых родов, то каждый род должен был иметь особого старшего,— явилось несколько великих князей. Начинается борьба между отдельными княжествами; цель этой борьбы — приобретение собственности, усиление одного княжества на счет других, подчинение всех княжеств одному сильнейшему; борьба оканчивается усилением княжества Московского, подчинением ему всех остальных. Несмотря, однако, на то, что начиная с XIII века Русь точно разделяется на несколько особых княжеств, и при господстве понятия об отдельной собственности, об уделе встречаем частое упоминание, являются отношения между удельными князьями и великими, возникает борьба между ними, стремление великих князей уничтожить уделы,— несмотря на все это и здесь названия “удельный период”, “удельная система” не могут иметь места, ибо Русь разделяется не на уделы, а на несколько независимых княжеств, из которых каждое имеет своего великого князя и своих удельных князей, и отношения между великими князьями играют столь же важную роль, как и отношения великих князей к их удельным; следовательно, название “удельного периода” и “удельной системы” и здесь также неверно, потому что не обнимает всех сторон княжеских отношений. Вот причины, которые заставляют исключить названия “удельный период” и “удельная система” из истории княжеских отношений и вместо того принять выражения определеннейшие: “отношения родовые” и “отношения государственные”. Но если несправедливо название “удельный период”, то еще менее справедливо название “монгольский период”. Это название может быть допущено только тогда, когда мы берем одну внешнюю сторону событий, не следя за внутренним, государственным развитием России; мы не имеем никакого основания ставить монгольские отношения на первом плане, приписывать азиатской орде такое сильное влияние на развитие европейско-христианского общества. Название “монгольский период” должно быть исключено из русской истории, потому что мы не можем приписать монголам самого сильного влияния на произведение тех явлений, которыми отличается наша история начиная с XIII века; новый порядок вещей начался гораздо прежде монголов и развивался естественно вследствие причин внутренних, при пособии разных внешних обстоятельств, в числе которых были и монгольские отношения, но не под исключительным их влиянием. Отстранив название “удельный период”, дававшее неверное понятие о характере нашей древней истории, о характере княжеских отношений; отстранив равно название “монгольский период”, который незаконно рассекал историю княжеских отношений на две части и тем самым прерывал для историка естественную связь событий, естественное развитие общества из самого себя,— мы приступим к изложению истории княжеских отношений, разделив весь труд на четыре отдела. 1-й отдел будет заключать пространство времени от призвания Рюрика до Андрея Боголюбского; здесь княжеские отношения носят характер чисто родовой. 2-й отдел обнимет события от Андрея Боголюбского до Иоанна Калиты; здесь обнаруживается стремление сменить родовые отношения, вследствие чего начинается борьба между князьями северной и южной Руси, преследующими противоположные цели. Эта борьба после раздробления рода сменяется борьбою отдельных княжеств с целью усиления одного на счет другого; окончательная победа остается на стороне княжества Московского. В 3-м отделе изложатся события, имевшие место от Иоанна Калиты до Иоанна III; вследствие усиления Московского княжества, стремящегося подчинить себе все другие, северо-восточная Русь сосредоточивается также около одного пункта — Москвы, в то же время Русь юго-западная сосредоточивается около одного пункта — Литвы; обе половины Руси, в челе которых стоят две различные династии, вступают в борьбу между собой, но отношения польские сдерживают деятельность литовских князей относительно Востока, а между тем московские владетели все более и более дают силы государственным отношениям над родовыми. 4-й отдел, от Иоанна III до пресечения Рюриковой династии, представит окончательное торжество государственных отношений над родовыми,— торжество, купленное страшной, кровавой борьбой с издыхающим порядком вещей”. Кавелин вполне оценил этот замечательный труд и отозвался о нем самым лестным образом в “Отечественных записках” и “Современнике”. Кавелину нравилось то, что Соловьев не только излагает факты, но старается объяснить общий ход русской истории. Погодин находил, что это бесполезный труд, что историк должен ограничиваться выборкой из летописей, не строя никаких систем, не увлекаясь никакими теориями, то есть оставаясь сухим летописцем, каковым был сам. Докторскую диссертацию Соловьева он назвал собранием парадоксов, но тут же выдал себя, признавшись: “Я не прочел всей книги, потому что видел с первых страниц путь непрямой, путь, не ведущий к цели”. Погодин обвинял Соловьева в поспешности: “Как г-н Кавелин приступает к истории с готовыми мыслями,— писал он,— так г-н Соловьев употребляет в дело первые ему попавшие в голову. Иначе и нельзя бы решить в один год столько вопросов: и об уделах, и о родовых отношениях, и о местничестве, и о Новгороде, и проч., и проч.”. Учителю было неприятно, что его молодой ученик решил много вопросов, так как он сам за двадцать лет ни одного вопроса не решил. Соловьев получил за свою диссертацию ученую степень доктора исторических наук и вслед за этим был утвержден экстраординарным профессором, а в 1850 году — ординарным. До самой смерти он жил почти безвыездно в Москве, переселяясь только на лето на какую-нибудь подмосковную дачу. Жизнь его не была богата событиями, так как он всю ее посвятил науке и Московскому университету, где занимал кафедру более тридцати лет. Поскольку на одно профессорское жалованье жить было невозможно, то Соловьев занимал и другие должности, сначала инспектора Николаевского института, а затем — директора Оружейной палаты. Кроме того, он преподавал русскую историю членам императорской фамилии. Уже незадолго до смерти Соловьева Академия наук, где кафедру истории занимал Погодин, признала наконец его ученые заслуги и избрала его в ординарные академики по русскому отделению. Соловьев справедливо восставал против крайней специализации в занятиях и хотел, чтобы высшее образование давало молодым людям не только специальные познания, но и общее развитие. Это видно из речи, сказанной им 1 ноября 1872 года при открытии Высших женских курсов в Москве. “Мы предлагаем, — говорил Соловьев, — Высшие курсы не факультетские, но курсы предметов общего образования. Почему же мы вам предлагаем такие курсы и их считаем необходимыми для вас? Да потому, что мы считаем себя обязанными по мере сил наших содействовать избавлению русской женщины от тех неудобств, которые терпят множество русских мужчин, принадлежащих к так называемому образованному классу,— от неудобств, проистекающих вследствие недостатка общего высшего образования. Известно, что сущность цивилизации состоит в разделении занятий: дикарь делает сам все для него нужное; человек цивилизованный делает что-нибудь одно и потому может совершенствовать свой труд, и так как относительно всех остальных необходимых вещей он находится в зависимости от своих собратий, то здесь образуется тесная общественная связь, источник общественного развития. Но в делах человеческих где свет, там и тень, и при блестящих успехах цивилизации, условленных разделением занятий, люди проницательные уже давно стали указывать на печальные следствия этого доводимого до крайности разделения занятий, указывали, как человек, занятый постоянно одним и тем же делом, тупеет, превращается в машину, тогда как духовные силы развиваются под условием простора, расширения горизонта, многообразия предметов, доступных познаванию и деятельности. Одинаково печальны бывают следствия, когда человек разбрасывается по множеству предметов и подавляется этим множеством и когда при исключительном занятии одним каким-нибудь делом дает иссякать своим духовным силам, не восстановляя их необходимой переменой занятия. Сказанное вообще прилагается и к разделению научных занятий: обыкновенно по окончании курсов общего образования в приготовительных школах стремятся в высшие специальные учреждения, чтобы посвятить себя изучению известного круга предметов, но это слишком поспешное ограничение себя известною специальностью приносит очень часто горькие плоды: само глубокое изучение своей специальности и известные успехи в ней не спасут человека от односторонности, остановки в развитии, отупения, и специалист в науке нисходит на степень специалиста в ремесле, он поражает незнанием самых обыкновенных предметов, задает детские вопросы, сидит глух и нем при решении вопросов общественного интереса, или, что еще хуже, муж, поседевший в трудах, принимает первое накрикнутое ему мнение и повторяет его. Часто старик идет в ученики к ребенку, от него старается узнать, какое последнее новенькое мнение существует относительно того или другого предмета, и легко понять, какие удивительные вещи получает в ответ: он или повторяет бессмыслицу, или с ужасом начинает жаловаться на науку, до чего она дошла в последнее время, чему это учат молодых людей; иной старается усвоить себе новенькое, самое цветное мнение точно так, как человек, приехавший из глуши в столицу, увидит человека пестро одетого и считает его за первого столичного франта, законодателя моды, облачится в пестроту и думает, что оделся по последней моде, с отличным вкусом. Таким образом, общего образования, доставляемого приготовительными школами, оказывается недостаточным, ибо они имеют главной задачей развитие умственных способностей для приготовления к дальнейшему занятию науками в специальных учреждениях,— обращается особенное внимание на предметы, наиболее содействующие достижению этой цели,— для занятия предметами высшего общего образования у них нет времени, да и возраст учащихся тому препятствует. А именно тогда, когда молодой человек вырос, окреп, развил свои способности посредством предметов приготовительной школы, когда получил возможность с успехом заняться предметами высшего общего образования, столь необходимыми для правильности его гражданской мысли и деятельности, именно тогда он углубляется в какую-нибудь специальность и без высшего общего образования подвергается опасности снизойти на степень ремесленника. Разумеется, есть натуры избранные, которые не могут чувствовать себя очень удобно в тесном помещении своей специальности и потому стараются приобрести сведения своими средствами, с большим трудом и препятствиями, в предметах общего высшего образования, отчего они становятся, с одной стороны, полноправными членами общества с голосом, а с другой — приобретают могущественные средства для успехов в своей специальности. Но такие явления составляют, к несчастью, исключения, а мы должны иметь дело с большинством, да и для всех вообще важно иметь средство с наименьшими усилиями и препятствиями приобретать сведения в предметах высшего общего образования, при указании и руководстве людей более опытных. Таким образом, необходимость правильно организованных курсов общего высшего образования есть потребность нудящая”. Сообразно с таким взглядом на высшее образование Соловьев старался в своих университетских лекциях не только давать студентам полезные сведения, но прежде всего развивать их, и потому придавал своему курсу философский характер. Не утомляя слушателей подробным изложением фактов, он останавливал внимание на так называемой внутренней истории, показывая, какое значение имела природа России для ее истории, прослеживая отношения между князьями в так называемый “удельный период”, объясняя, какое значение имело татарское иго, почему столица перенесена была с юга на север, как сложилось самодержавие, как вследствие борьбы казачества с земскими людьми наступило Смутное время, почему необходима была реформа Петра и в какой связи она находилась с предыдущим временем. Профессор старался понять законы, по которым развивалась русская история, и постоянными сравнениями с историей Западной Европы давал своим слушателям богатый материал для выводов, заставлял их думать, расширял их умственный горизонт. Чтобы познакомить читателей с изложением мыслей Соловьева на кафедре, приведу для примера одно место из его ненапечатанных лекций, где он говорит о реформе Петра Великого. “Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь: после многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад,— поворот, который должен был необходимо вести к страшному перевороту, болезненному перелому в жизни народной, в существе народа, ибо здесь было сближение с народами цивилизованными, у которых надо было поучиться, которым надо было подражать. Вопрос о том, могло ли сближение с европейскими народами и воспринятие цивилизации совершиться спокойно в России, постепенно, без увлечения, решается легко при внимательном наблюдении общих законов исторических явлений. Можно ли себе представить, чтобы молодой, исполненный жизненных сил народ, сблизившись с другими, превосходящими его народами, понявши чрез сравнение недостатки своего быта, не бросился вдруг на все то, что казалось ему лучшим у других? Да и можно ли было медлить, когда несостоятельность его воли, несостоятельность материальная и нравственная были так живы? Западные европейские народы относительно цивилизации своей стояли высоко над русским, который должен был идти к ним в ученье. Долговременное пребывание в удалении от Западной Европы и ее цивилизации, крайность, исключительность одного направления необходимо условливали крайность противоположного направления, необходимость удовлетворить вдруг всему должна была неминуемо сообщить нашему так называемому преобразованию характер революционный, всесторонний. На Западе эти революции были политические, односторонние, боролись люди одной какой-нибудь партии; у нас в России революция прошла по чувству и уму человека, революция совершилась во всем русском человеке; некоторые думали, что Россия переоделась только, что в этом только состояла революция, но, внимательно присматриваясь, увидим, что русский человек преобразовался внутри. Миллионы новых предметов, понятий и отношений теснятся в уме русского человека, и он не слабеет, он не умирает от прикосновения к цивилизации, потому что он не как слабый дикарь знакомится с одной водкой, для слабой головы которого мир новых понятий не по силам, а как человек, сознательно понявший необходимость ученья. Известно, что воспитатели и педагоги говорят: нельзя трудить слишком ребенка, нельзя вбивать ему в голову всего разом, представлять ему множество понятий и новых отношений, потому что можно заучить ребенка, умертвить его. То же самое происходит и со взрослыми дикарями: они не переносят натиска новых понятий, они заучиваются, так сказать, хиреют, вымирают. Следовательно, если народ, не знавши цивилизации, вдруг встречается с нею и не хиреет, не дрожит перед нею, а продолжает жить усиленной жизнью, он силен,— а русский человек выдержал натиски цивилизации в начале XVIII века. Преобразовательная деятельность должна была совершиться, она была необходима: народ, отставший от общего хода европейской жизни, вместе живой и молодой, не мог не броситься в погоню за цивилизацией. Мы не можем упрекать человека, который до совершеннолетия по обстоятельствам жизни своей не мог образовываться, а потом вдруг усиленно начинает хлопотать об этом, тем более что эта поспешность находится в связи с его существованием, а в таком-то положении находилась Россия: без преобразования она не могла существовать, преобразование, и преобразование спешное, было естественным следствием и необходимым результатом всей древней русской истории. Если наша революция в начале XVIII века была необходимым условием предшествовавшей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перевороте, Петра Великого; он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру. Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа, удовлетворяющий своей деятельностью известным потребностям народа в известное время. Формы деятельности великого человека условлены историей, бытом народа, среди которого он действует. Чингисхан и Александр Македонский — оба завоеватели, но какая разница между ними! Эта разница происходит от различия народов, которых они были представителями. Деятельность великого человека есть результат всей предшествовавшей истории народа; великий человек не насилует свой народ, не создает того, что не потребно, и великий человек теряет свое божественное значение, не является существом созидающим и разрушающим по своему произволу. Иностранцы не без некоторого, понятного, впрочем, удовольствия повторяли и повторяют, что Петр насильно и преждевременно цивилизовал русских, что и не могло повести и даже никогда не поведет ни к какому толку. Вооружаются вообще против преобразований, идущих сверху. Мы не знаем будущего, и потому не станем говорить о нем, но для устранения бесплодных толков опять обратимся к сравнениям из прошедшего. В настоящее время ни один из европейских писателей, верующий или неверующий, не станет отрицать цивилизующего значения христианства; каждый европеец гордится тем, что христианство пустило глубокие корни преимущественно в Европе, что доказывает высшее развитие, большую крепость племен, населяющих эту часть света. Но пусть же припомнят историю принятия христианства европейскими народами, пусть припомнят, что обыкновенно дело шло сверху, принимали христианство князь, дружина его, ближние люди, и потом уже новая вера распространялась в массе, причем не обходилось без ожесточенной борьбы, без страшного сопротивления со стороны народа, отстаивавшего старину, веру отцовскую. Что же из этого следует? То, что европейские народы были обращены в христианство насильно своими правительствами? Еще пример ближайший: в Англии король Генрих VIII вздумал отложиться от римской церкви; но известно, какое сильное сопротивление встретил он своему делу, какие сильные раздражения, восстания вельмож и народа должен был он побороть,— значит, английский народ был насильно отторгнут от папы, и реформа, которой так гордятся англичане, была личным делом Генриха VIII? Итак, они ошибаются: Россия сама повернула на новый путь, но как нарочно в это же время грусть и скука выгоняют молодого царя из дворца на улицу, в новую сферу, где он окружен новыми людьми, где он — вождь новой дружины, разошедшейся с прежним бытом, с прежними отношениями. Без оглядки бежит он из скучного дворца чистым и свежим, новым человеком и потому способным окружить себя новыми людьми; он убежал от царедворцев и ищет товарищей, берет всякого, кто покажется ему годным для его дела. Образуется новое государство, и, как обыкновенно бывало при этом, является дружина со своим вождем, которая и движется, разрушая старое, созидая новое. В Петре не было ничего, что старинные русские люди привыкли соединять со значением царя,— это герой в античном смысле, это в новое время единственная исполинская фигура, каких мы много видим в туманной дали, при основании и устроении человеческих обществ”. “Для Соловьева, как и для Грановского,— говорит академик К. Н. Бестужев-Рюмин,— история была наука, по преимуществу воспитывающая гражданина. Для того и для другого поучительный характер истории заключался не в тех прямых уроках, которыми любила щеголять историография XVIII века и которыми богаты страницы Карамзина, где выставляются герои добродетели в пример для подражания и чудовища порока в образец того, чего следует избегать. Нет, ни тот, ни другой из этих незабвенных профессоров не считал историю “зеркалом добродетели”, но каждый из них имел другую цель: они старались воспитать в своих слушателях сознание вечных законов исторического развития, уважение к прошлому, стремление к улучшению и развитию в будущем; они старались пробудить сознание того, что успехи гражданственности добываются трудом и медленным процессом, что великие люди суть дети своего общества и представители его, что им нужна почва для действия. Не с насмешкой сожаления относились они к прошлому, но со стремлением понять его в нем самом, в его отношениях к настоящему: “Спросим человека, с кем он знаком,— и мы узнаем человека; спросим о его истории,— и мы узнаем народ”. Этими словами Соловьев начал свой курс 1848 года, когда я имел счастье его слушать. В истории народа мы его узнаем, но только в полной истории, в такой, где на первый план выступают существенные черты, где все случайное, несущественное отходит на второй план, отдается в жертву собирателям анекдотов, любителям “курьезов и раритетов”. Кто так высоко держал свое знамя, тот верил в будущее человечества, в будущее своего народа и старался воспитывать подрастающее поколение в этой высокой вере. С этой-то воспитательной целью такие профессора держались преимущественно общих очерков, где в мелочах не теряется общая мысль. Таким был всегда характер курсов Грановского, таким постепенно делал свой курс Соловьев; но и на первых своих шагах в университете он уже давал много места общим соображениям и выводам”. Как горячо принимал к сердцу Соловьев университетские дела, видно из следующего рассказа профессора Буслаева: “Первым делом в организации университетского самоуправления (по введении университетского устава 1863 года) было — решить, кого избрать председателем совета. Вопрос этот на первых же порах сделался яблоком раздора в профессорской корпорации. Одни хотели иметь ректором Соловьева, другие — Баршева, и таким образом желанное единогласие для общей пользы было нарушено и распалось на две враждебные партии, на соловьевскую и баршевскую. Первая была гораздо малочисленнее последней, поэтому ректором был избран Баршев и оставался в этой должности несколько трехлетий сряду. Ожесточенная вражда, не умолкавшая в стенах университета, наконец опротивела мне донельзя. Она вредила и общему делу, и была гибельна для отдельных лиц. Однажды в заседании совета Соловьев, в качестве декана, горячо защищал какое-то предложение или заявление филологического факультета от злостных нападок со стороны враждебной партии и до того был оскорблен и раздражен нахальством и дерзостью своих противников, что совсем изнемог, а воротившись домой, в тот же день слег в постель и целые шесть недель прохворал в нервной горячке” (“Вестник Европы”, 1892, март). В семидесятых годах, когда изменилась профессорская корпорация, Соловьева несколько раз выбирали в ректоры. “Когда университет, — говорит ученик и сослуживец Соловьева профессор Герье, — признавая его значение, избрал его в ректоры, для этого учреждения наступила новая счастливая пора внутреннего развития, оправдавшая начала, положенные в основание университетского устава 1863 года. Ректорство С. М. Соловьева было знаменем служения одним только научным интересам и широкого понимания задач университетской жизни. Слова, написанные им некогда об исповедниках просвещения в XVII веке, что им “нужно было много труда, много жертв и страдания”, сделались как бы пророческими для него самого. Ему опять пришлось бороться против недоверия к науке, “происходившего от неуменья сладить с прогрессом, от стремления остановить его, возвратиться к первоначальным формам”. Но теперь речь шла не о литературных направлениях, не об исторических взглядах, оно касалось жизненных форм русской науки, университетского строя... Ученый, который своей многолетней, всеми признанной деятельностью доказал, как он умел согласовать самую искреннюю, разумную преданность государственному началу с бескорыстным стремлением к науке и просвещению, мог, конечно, вернее и беспристрастнее многих других судить об истинных потребностях русской науки. Но ему не суждено было дать перевес тому, что он считал правым делом; весною 1877 года Соловьев был принужден оставить ректорство и прославленную им кафедру. Через два года смерть навсегда прекратила его просвещенную деятельность”. Еще не настало время рассказывать подробно о борьбе, которую вел С. М. Соловьев,— борьбе прогресса с застоем, светлого начала с темным. Еще живы лица, с которыми он боролся, которые осилили его... |